Как художники и кураторы 58 Биеннале современного искусства в Венеции угадали наше сегодня.
В мае 2019 года я полетела на открытие Венецианской биеннале в качестве спецкора colta.ru
* с редакционным заданием: написать о событии, самых интересных работах и павильонах. За это — о счастье — мне выдали заветную «корочку» удостоверение, которое открывало двери всех самых закрытых и чудесных мероприятий превью.
Статья у меня получилась тем более интересная, что уже через три месяца после окончания биеннале началась эпидемия короновируса и мир покатился в какую-то неправильную сторону. Отсюда, из нашего сегодня, само название проекта “May you live in interesting times” и его центральные работы звучат, как сбывшееся пророчество…
Кольту заблокировали в России, вместе с ней исчезла из сети моя статья. К счастью у меня сохранился текст и фотографии в телефоне. Публикую их в моем блоге, пусть живут.
* 11.03.2022 Роскомнадзор заблокировал сайт издания за «размещение недостоверной общественно значимой информации».
* с редакционным заданием: написать о событии, самых интересных работах и павильонах. За это — о счастье — мне выдали заветную «корочку» удостоверение, которое открывало двери всех самых закрытых и чудесных мероприятий превью.
Статья у меня получилась тем более интересная, что уже через три месяца после окончания биеннале началась эпидемия короновируса и мир покатился в какую-то неправильную сторону. Отсюда, из нашего сегодня, само название проекта “May you live in interesting times” и его центральные работы звучат, как сбывшееся пророчество…
Кольту заблокировали в России, вместе с ней исчезла из сети моя статья. К счастью у меня сохранился текст и фотографии в телефоне. Публикую их в моем блоге, пусть живут.
* 11.03.2022 Роскомнадзор заблокировал сайт издания за «размещение недостоверной общественно значимой информации».
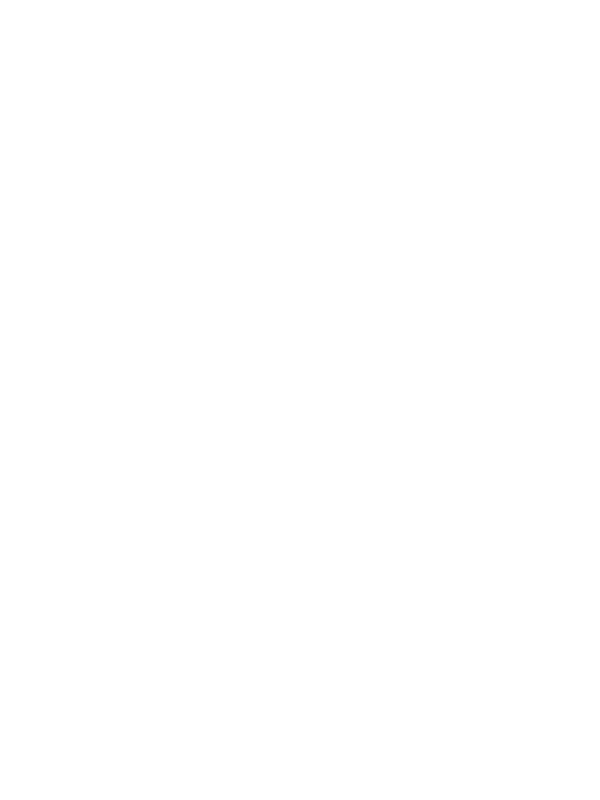
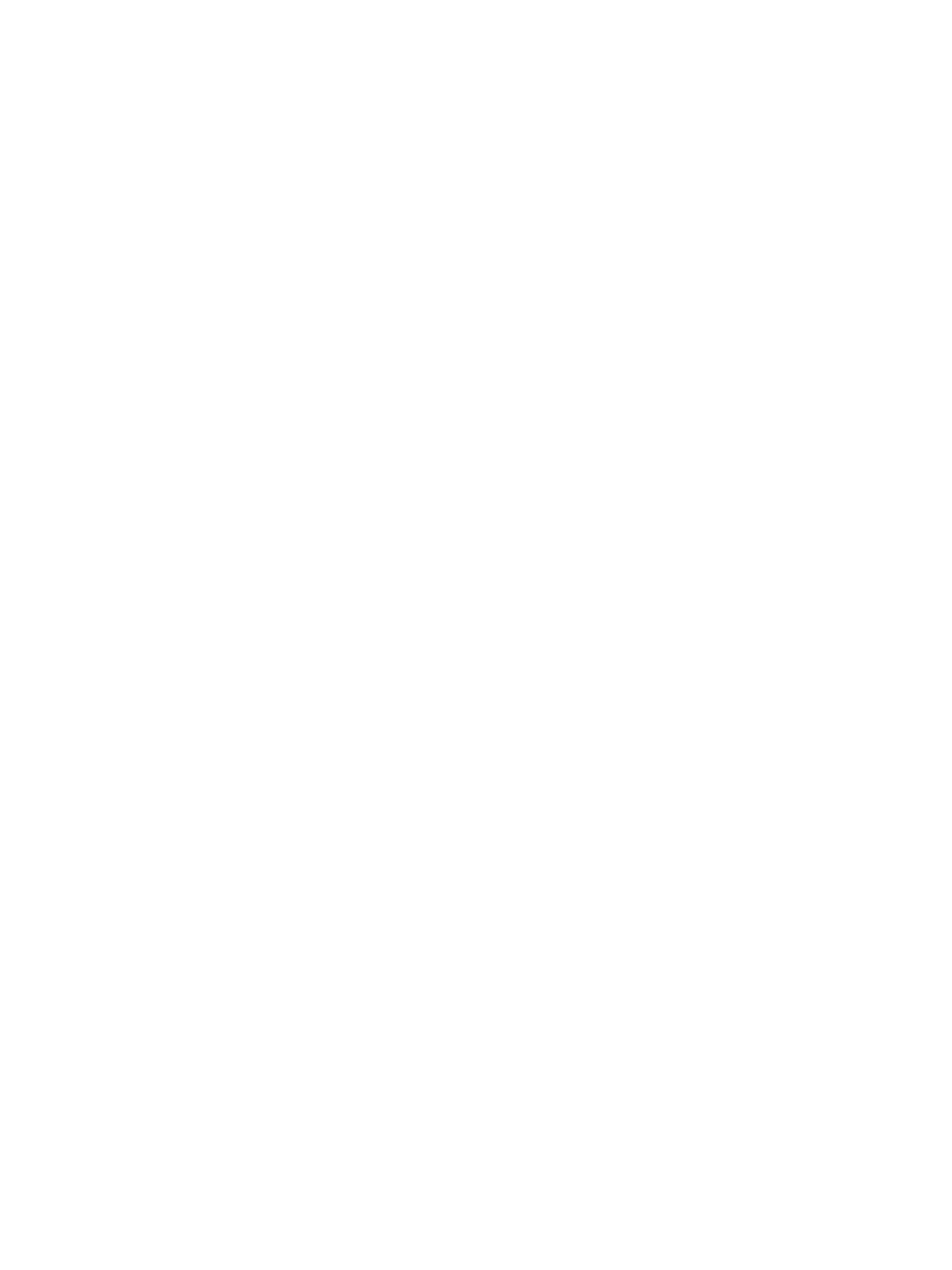
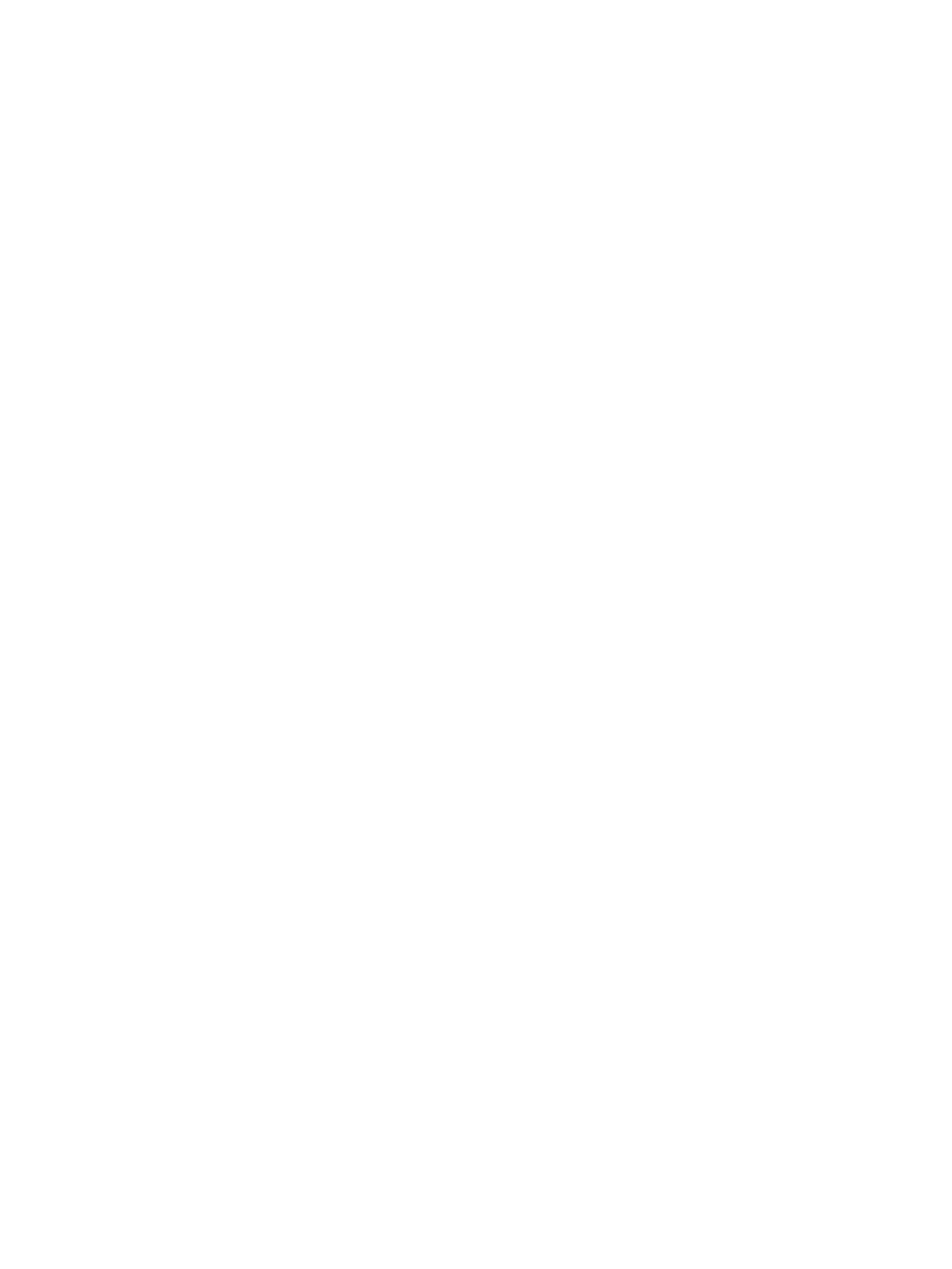

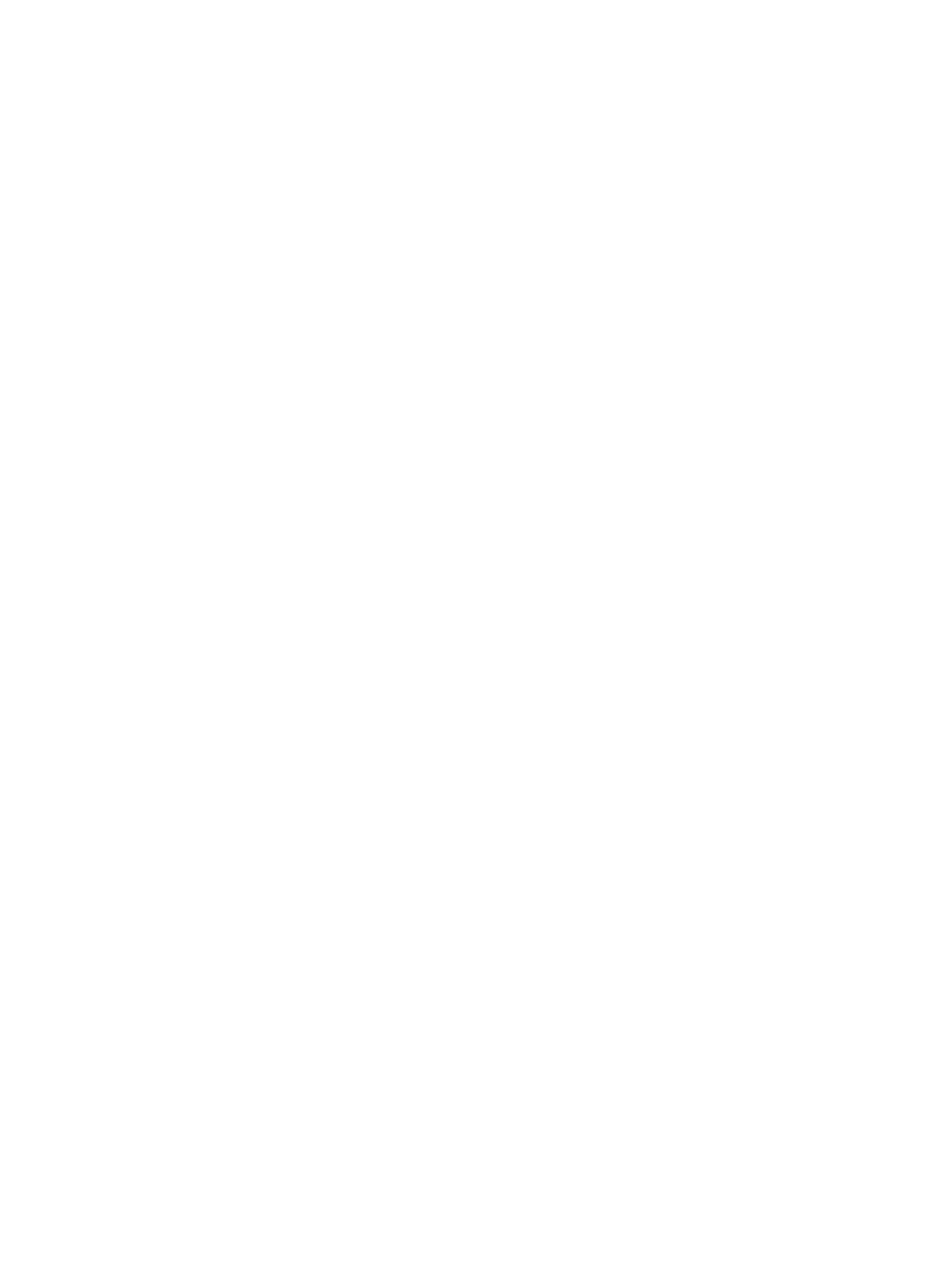
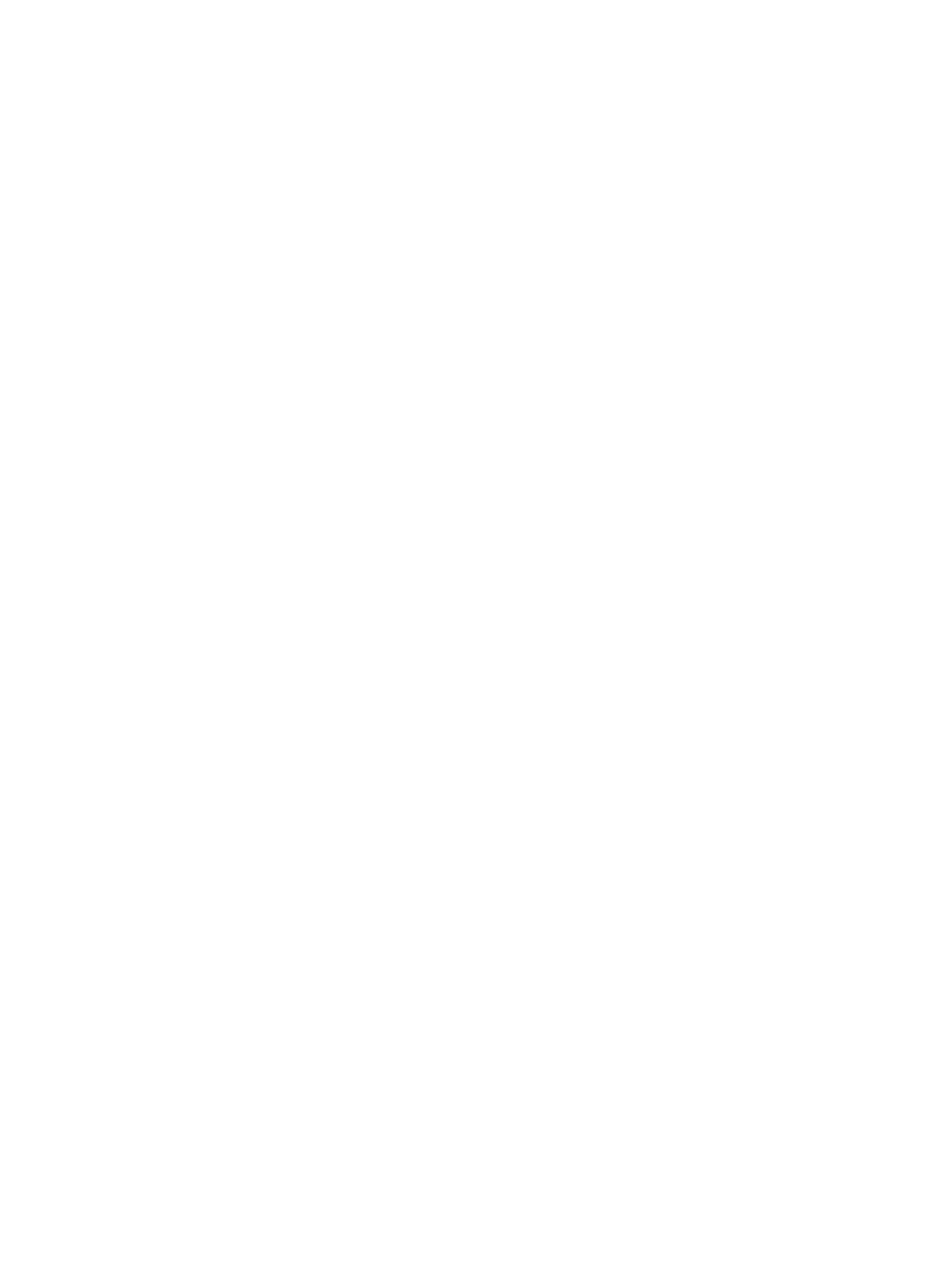

Взлеты и падения искусств в (не)интересные времена
Все лето и осень 2019 года работала 58 Биеннале современного искусства в Венеции. Искусствовед Тамара Вехова побывала на открытии в мае, изучила рецензии в российских и мировых СМИ и рассказывает, что представляет собой нынешняя Биеннале и как ее оценили в профессиональном сообществе
Главное впечатление от биеннале – это невероятное разнообразие: художники говорят на всех языках в буквальном и переносном смысле. Вседозволенность и вседоступность, все медиа и темы вперемешку, каждый пишет, как он слышит, каждый сам себе блоггер – вот оно, точное отражение современности.
Собрал этот пестрый разноголосый хор американский куратор Ральф Ругофф, он же задал основному проекту Биеннале тему: “May You Live In Interesting Times” (букв. “Можете ли вы жить в интересные времена”). В самом названии заключена интрига, каких только трактовок этого выражения я не услышала в дни открытия: от пожелания «чтобы жить вам в интересное время» до предостережения «не дай вам Бог жить в “интересную” эпоху»: «Само название May You Live In Interesting Time – это обманка. Она будто бы отсылает к древнекитайскому строптивому высказыванию: “Не дай Бог жить в эпоху перемен”. Однако придумана европейскими интеллектуалами XX века. Да и ругань-то не очевидная: может, жить в эру перемен куда как интереснее?» - пояснил задумку куратора Сергей Хачатуров.
Каждый художник (всего в групповой выставке участвует 79 авторов и коллективов, причем все они ныне живущие и ровно половина из них – женщины) представлен двумя работами. Одной – в центральном павильоне в садах Джардини, второй – в Арсенале. Идея взять на борт “каждой твари по паре” хороша уже тем, что, хотя в первые минуты разнообразие информационного потока и оглушает (“зачем так много всего и как в этом сориентироваться?”), но игра с поиском и сопоставлением имен на двух основных площадках задает сценарий и ориентиры, помогающие не заблудиться в этом многообразии с первой же минуты.
Собрал этот пестрый разноголосый хор американский куратор Ральф Ругофф, он же задал основному проекту Биеннале тему: “May You Live In Interesting Times” (букв. “Можете ли вы жить в интересные времена”). В самом названии заключена интрига, каких только трактовок этого выражения я не услышала в дни открытия: от пожелания «чтобы жить вам в интересное время» до предостережения «не дай вам Бог жить в “интересную” эпоху»: «Само название May You Live In Interesting Time – это обманка. Она будто бы отсылает к древнекитайскому строптивому высказыванию: “Не дай Бог жить в эпоху перемен”. Однако придумана европейскими интеллектуалами XX века. Да и ругань-то не очевидная: может, жить в эру перемен куда как интереснее?» - пояснил задумку куратора Сергей Хачатуров.
Каждый художник (всего в групповой выставке участвует 79 авторов и коллективов, причем все они ныне живущие и ровно половина из них – женщины) представлен двумя работами. Одной – в центральном павильоне в садах Джардини, второй – в Арсенале. Идея взять на борт “каждой твари по паре” хороша уже тем, что, хотя в первые минуты разнообразие информационного потока и оглушает (“зачем так много всего и как в этом сориентироваться?”), но игра с поиском и сопоставлением имен на двух основных площадках задает сценарий и ориентиры, помогающие не заблудиться в этом многообразии с первой же минуты.
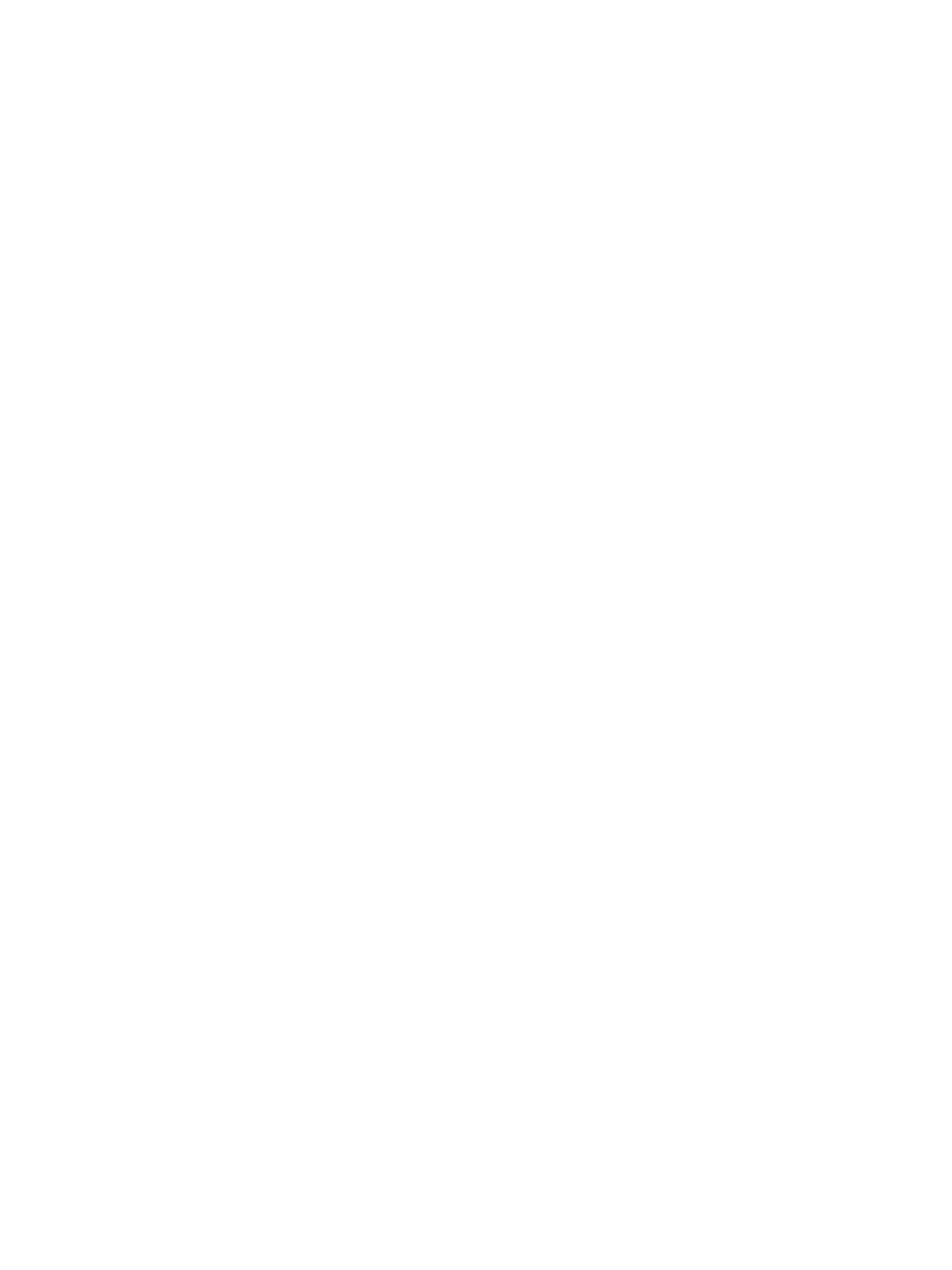
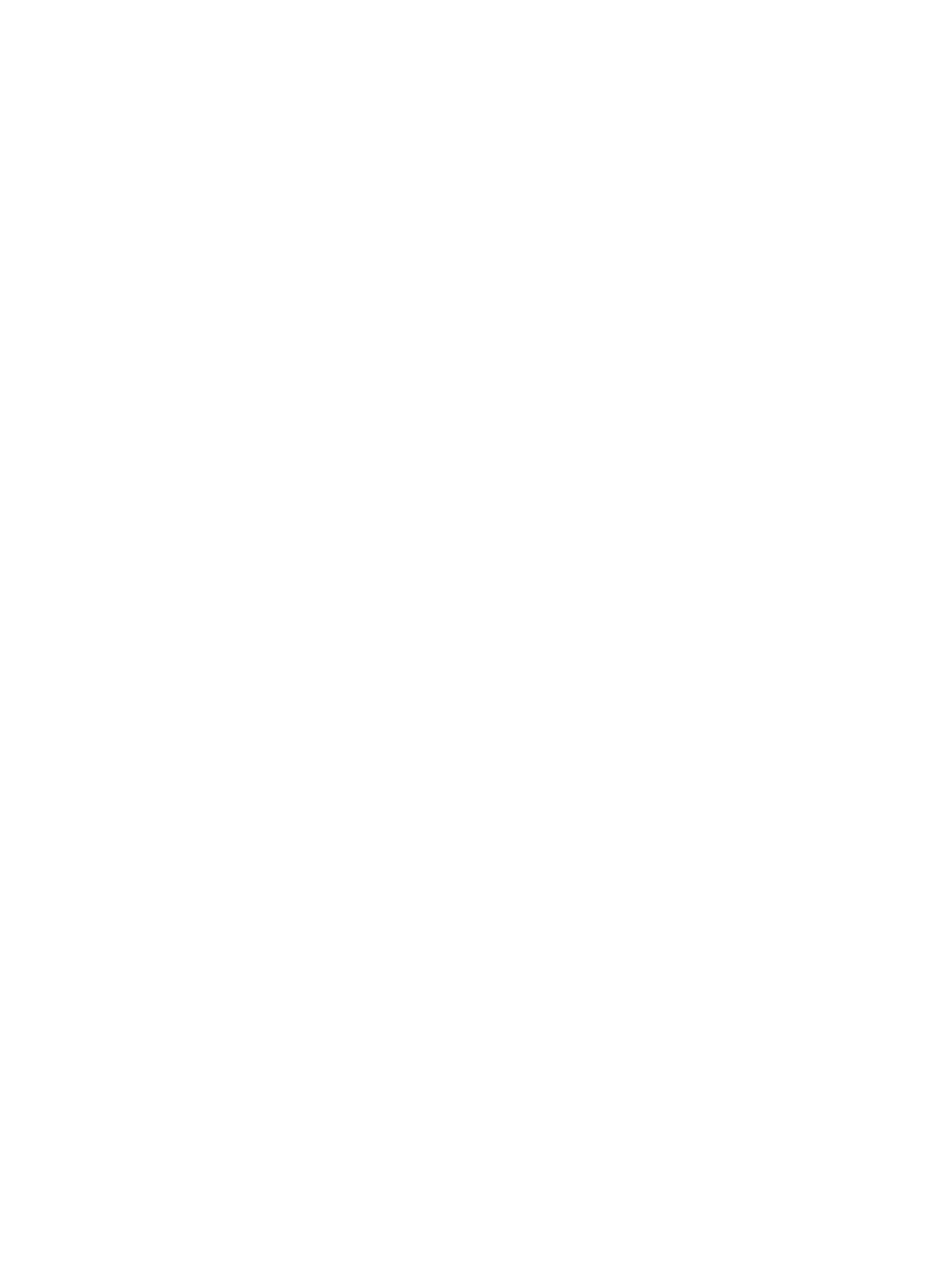
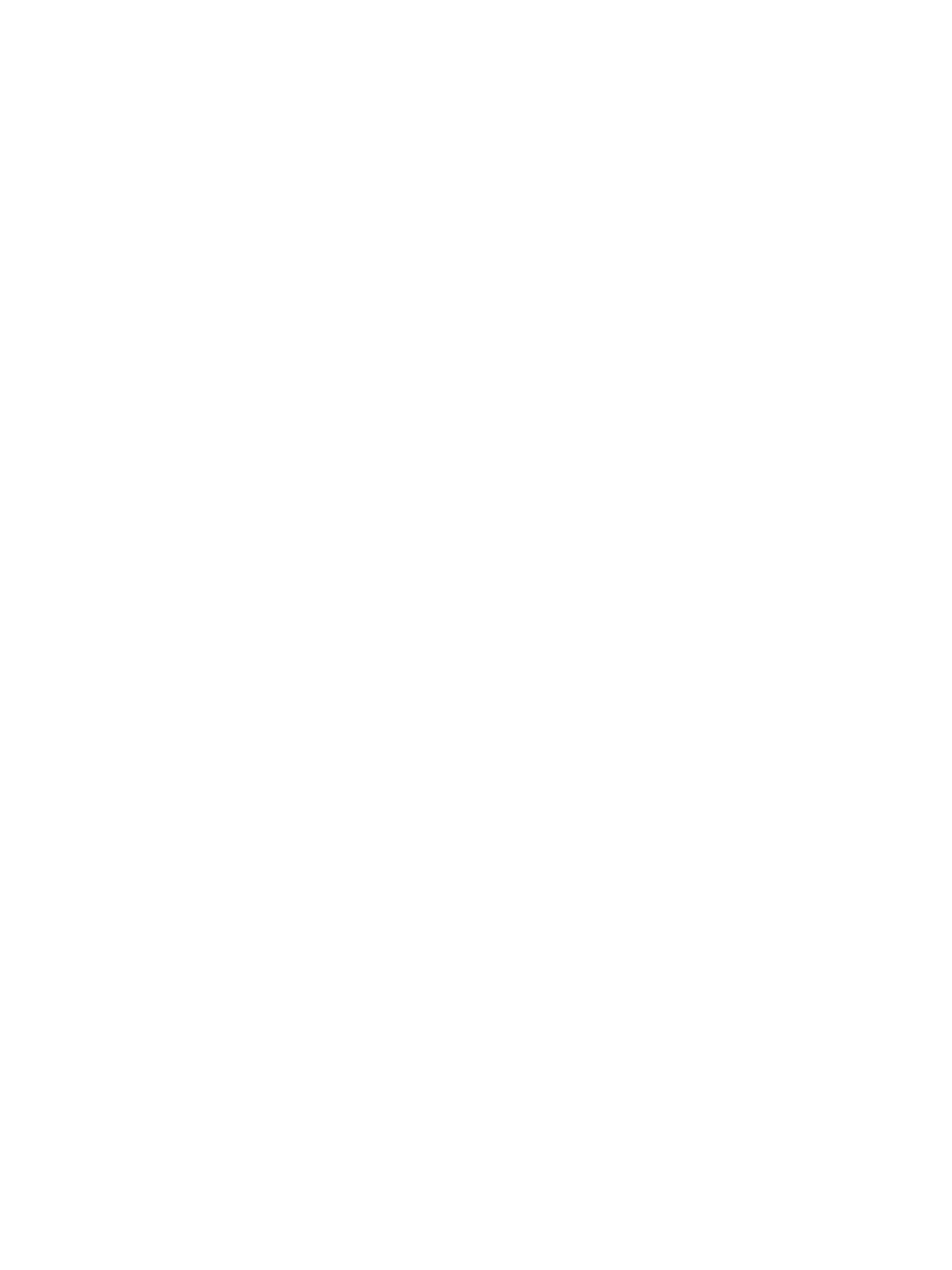
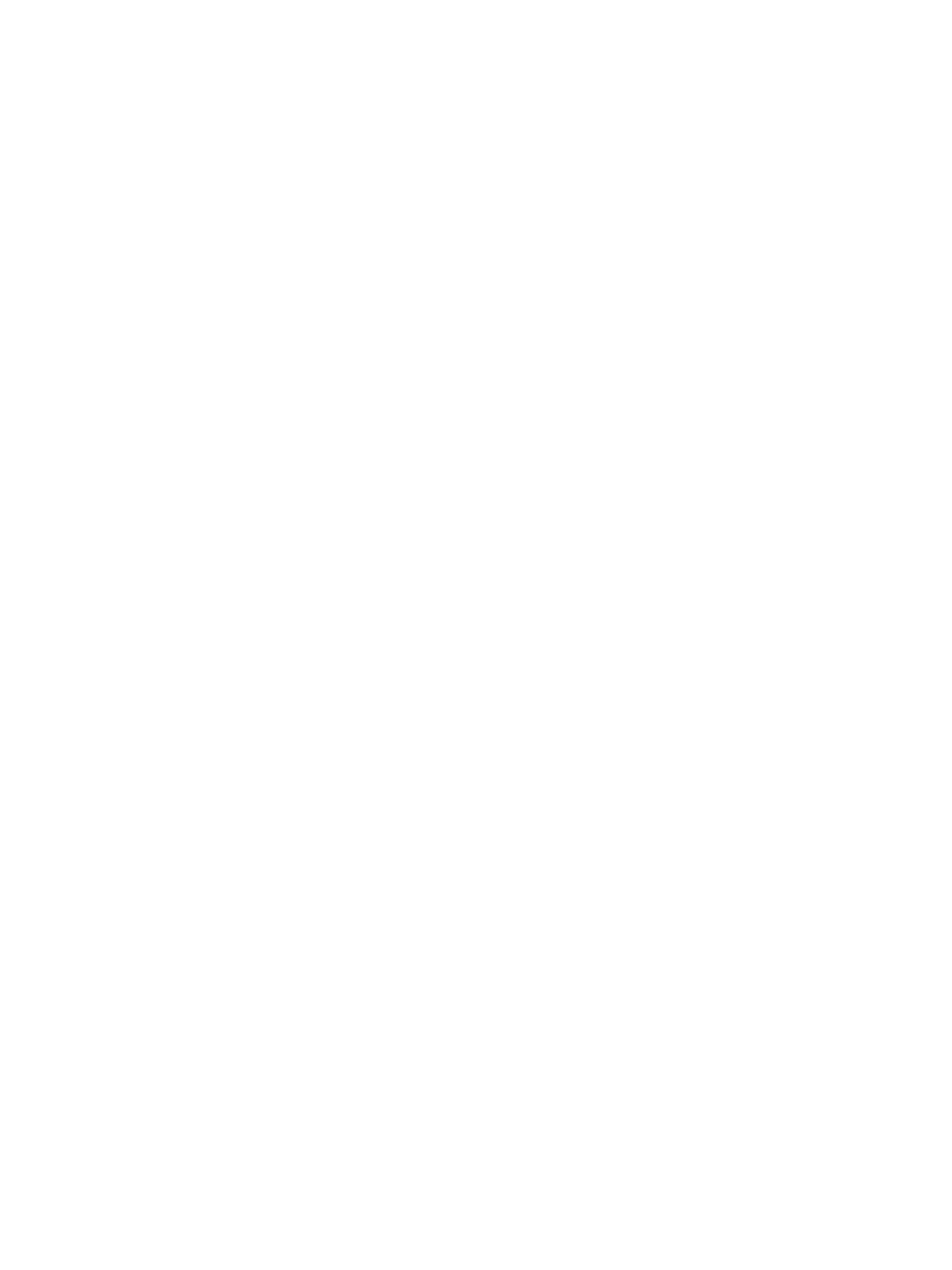
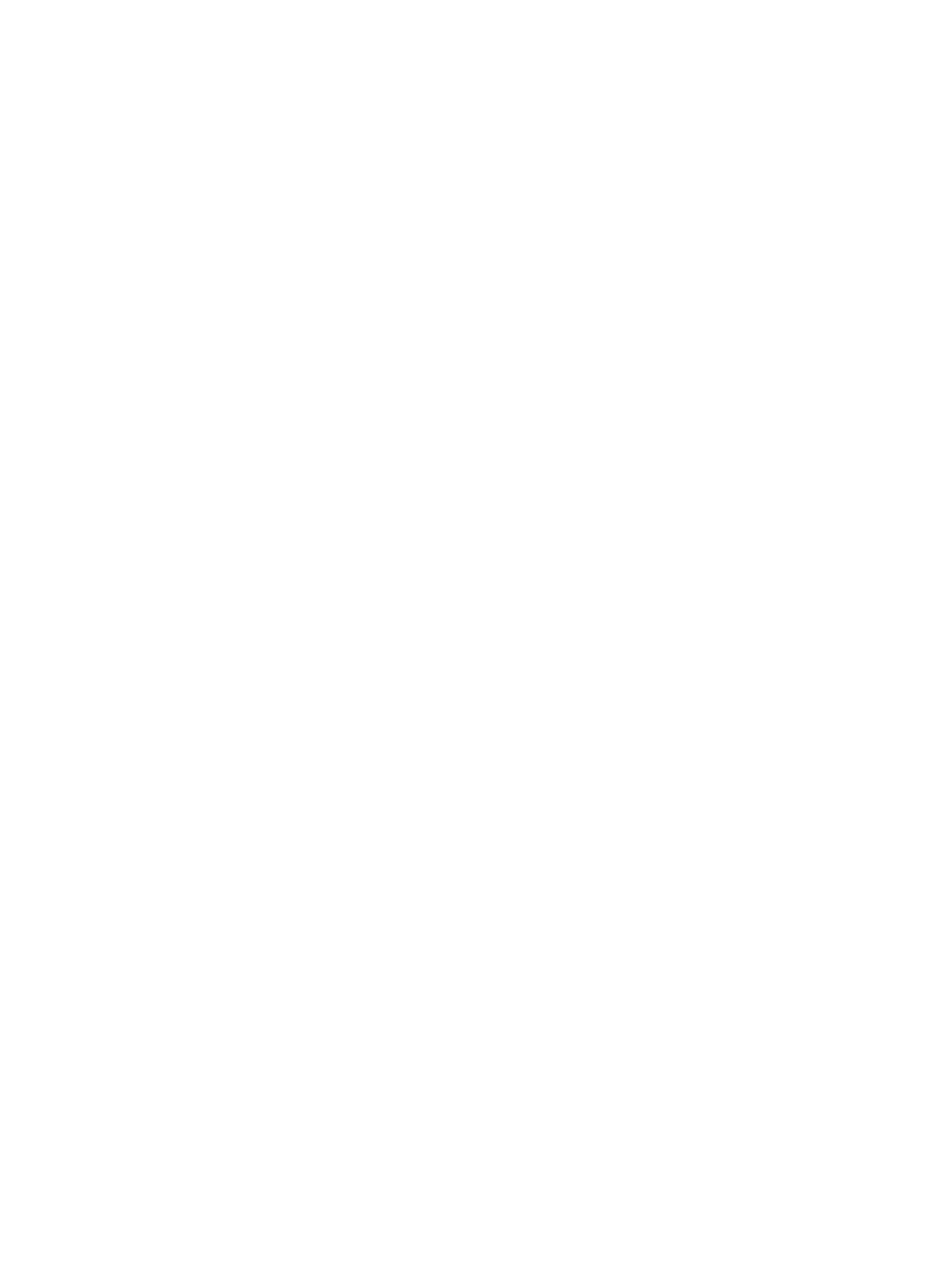
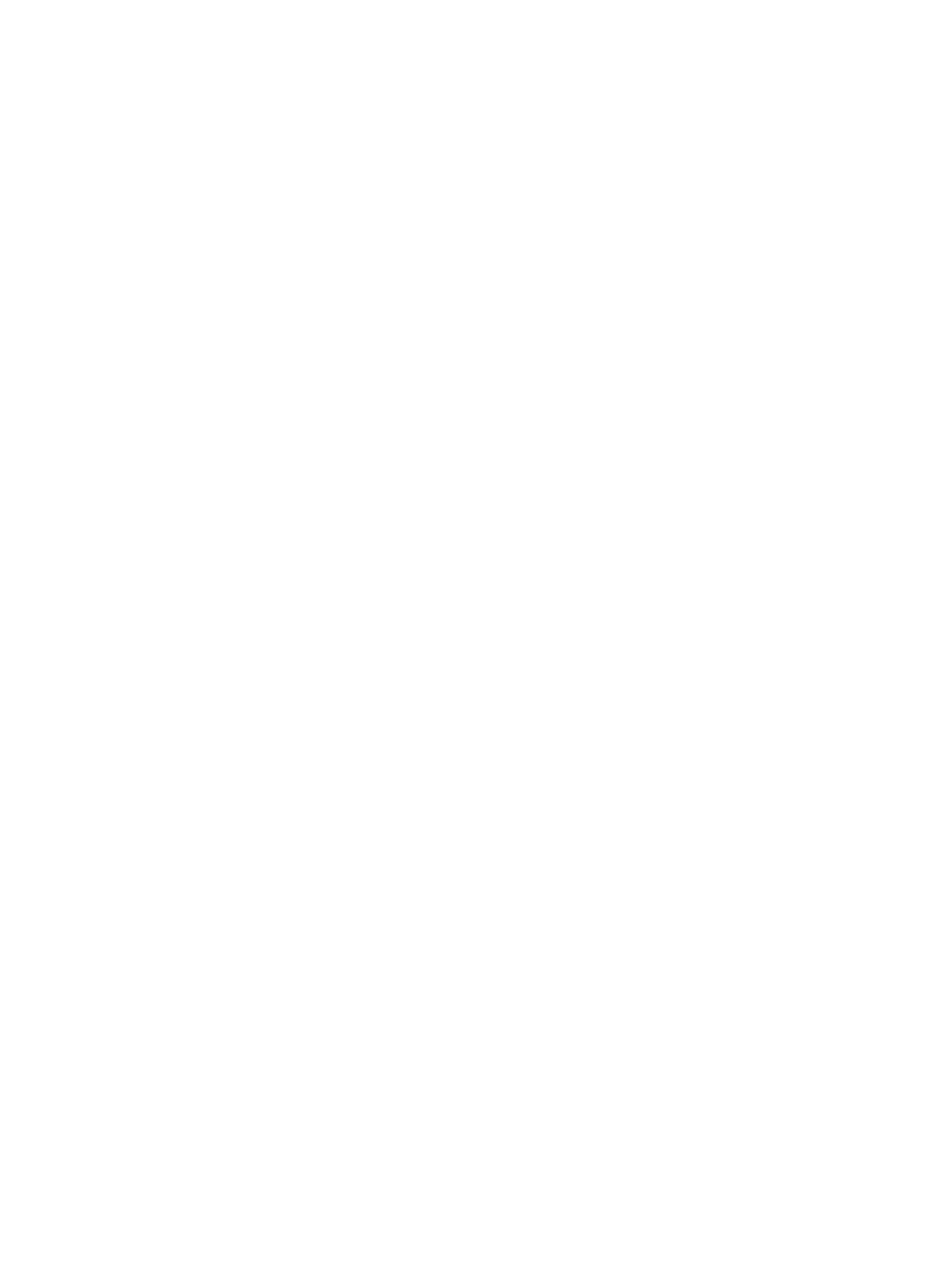
В день открытия в центральном павильоне в Джардини было тесно и душно. Утомившись в толпе, я придумала себе любопытное занятие – угадывать, из какой страны художник, ведь и в самом формате Биеннале заложен этот сценарий классификации увиденного по национальному (а вернее – географическому) признаку. Прогулка по национальным павильонам стран-участниц становится естественным продолжением этого сценария.
Одной из наиболее артикулированных тем в современном искусстве, как показывает нынешняя биеннале, является поиск актуальных национальных ценностей и локальных корней в ответ на глобализацию, миграцию и размывание границ и «лица» западной культуры. Это отметили все. Но если российские критики почти единогласно благосклонны к биеннале, то западные СМИ за редким исключением отзываются о проекте весьма скептически. The Guardian окрестила Биеннале “глупым искусством для глупого времени”. The Art Newspaper недовольна национальными павильонами («получились в этом году из рук вон плохо»).
Jason Farago из NY Times подытоживает впечатление западных критиков: «Ральф Ругофф сделал шоу, цель которого – подвести итоги (выявить главное / ключевое) в нашем туманно звучащем настоящем, в котором рухнули привычные нарративы и теперь мы боремся за то, чтобы найти новые ориентиры. Его выставка местами выстроена красиво и эффектно, местами – равнодушно и механически. Она вроде бы вполне актуальная, но в то же время бесконфликтная (безопасная) и слишком уж отстраненная. 58 Биеннале – смутное высказывание, и если бы я знал, что же она собственно хотела сказать…»
Однако безусловно удачных проектов, которые хвалили даже скептики, набралось столько, что уже хотя бы ради них стоит ехать и смотреть Биеннале.
Одной из наиболее артикулированных тем в современном искусстве, как показывает нынешняя биеннале, является поиск актуальных национальных ценностей и локальных корней в ответ на глобализацию, миграцию и размывание границ и «лица» западной культуры. Это отметили все. Но если российские критики почти единогласно благосклонны к биеннале, то западные СМИ за редким исключением отзываются о проекте весьма скептически. The Guardian окрестила Биеннале “глупым искусством для глупого времени”. The Art Newspaper недовольна национальными павильонами («получились в этом году из рук вон плохо»).
Jason Farago из NY Times подытоживает впечатление западных критиков: «Ральф Ругофф сделал шоу, цель которого – подвести итоги (выявить главное / ключевое) в нашем туманно звучащем настоящем, в котором рухнули привычные нарративы и теперь мы боремся за то, чтобы найти новые ориентиры. Его выставка местами выстроена красиво и эффектно, местами – равнодушно и механически. Она вроде бы вполне актуальная, но в то же время бесконфликтная (безопасная) и слишком уж отстраненная. 58 Биеннале – смутное высказывание, и если бы я знал, что же она собственно хотела сказать…»
Однако безусловно удачных проектов, которые хвалили даже скептики, набралось столько, что уже хотя бы ради них стоит ехать и смотреть Биеннале.
1. Арсенале
Эта площадка уверенно лидирует в биеннальном рейтинге. Снаружи, на берегу искусственной акватории Арсенала Ругофф водрузил “Ноев ковчег” – проект Кристофа Бюхеля “Barca nostra”. При ближайшем рассмотрении ковчег оказался остовом рыбачьей лодки, затонувшей в 2015 году по пути из Ливии в Италию. На борту судна, рассчитанного на команду из 15 человек, находилось 800 беженцев… Поднятый со дна корабль-призрак – настоящий знак memento mori среди роскошных многоэтажных яхт и легкомысленных гондол. Кое-кто ужаснулся, ну а большинство ничего не поняло: «Можно сказать, что Бухель поставил зрителей лицом к лицу со смертью. Но посетители Биеннале задерживаются у барки буквально на мгновение – для того, чтобы сделать на ее фоне очередное селфи», – написали The Financial Times.
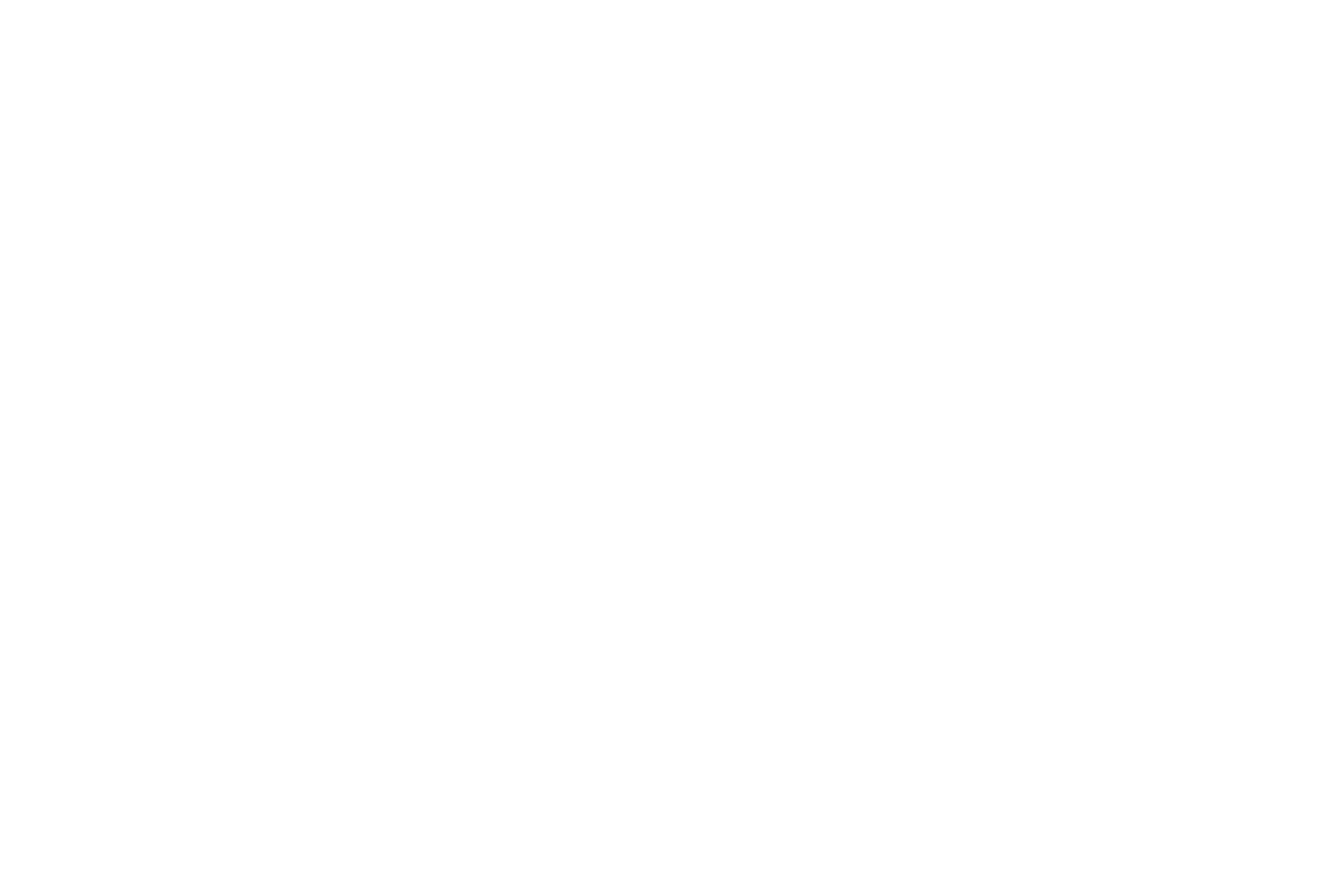
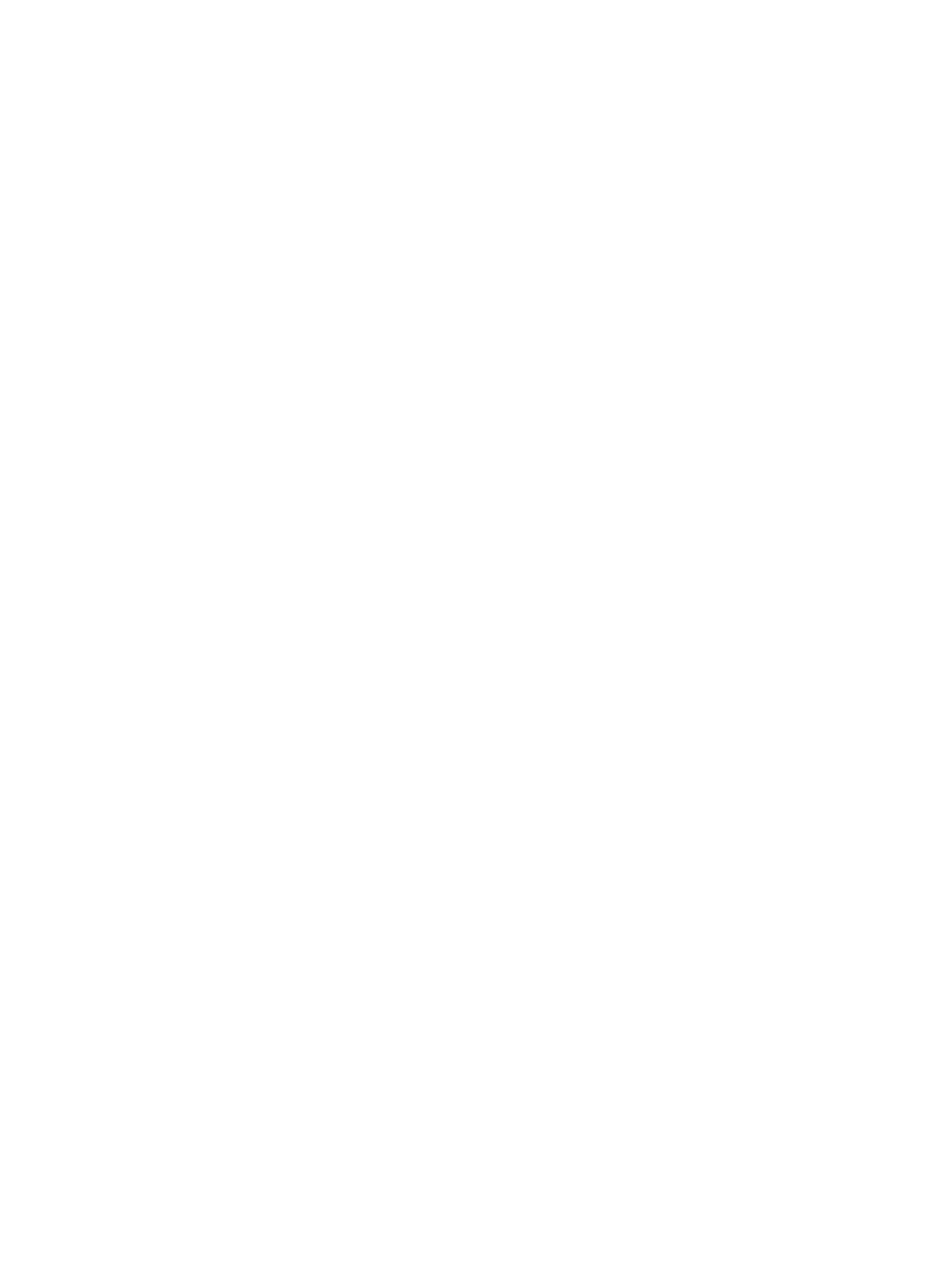
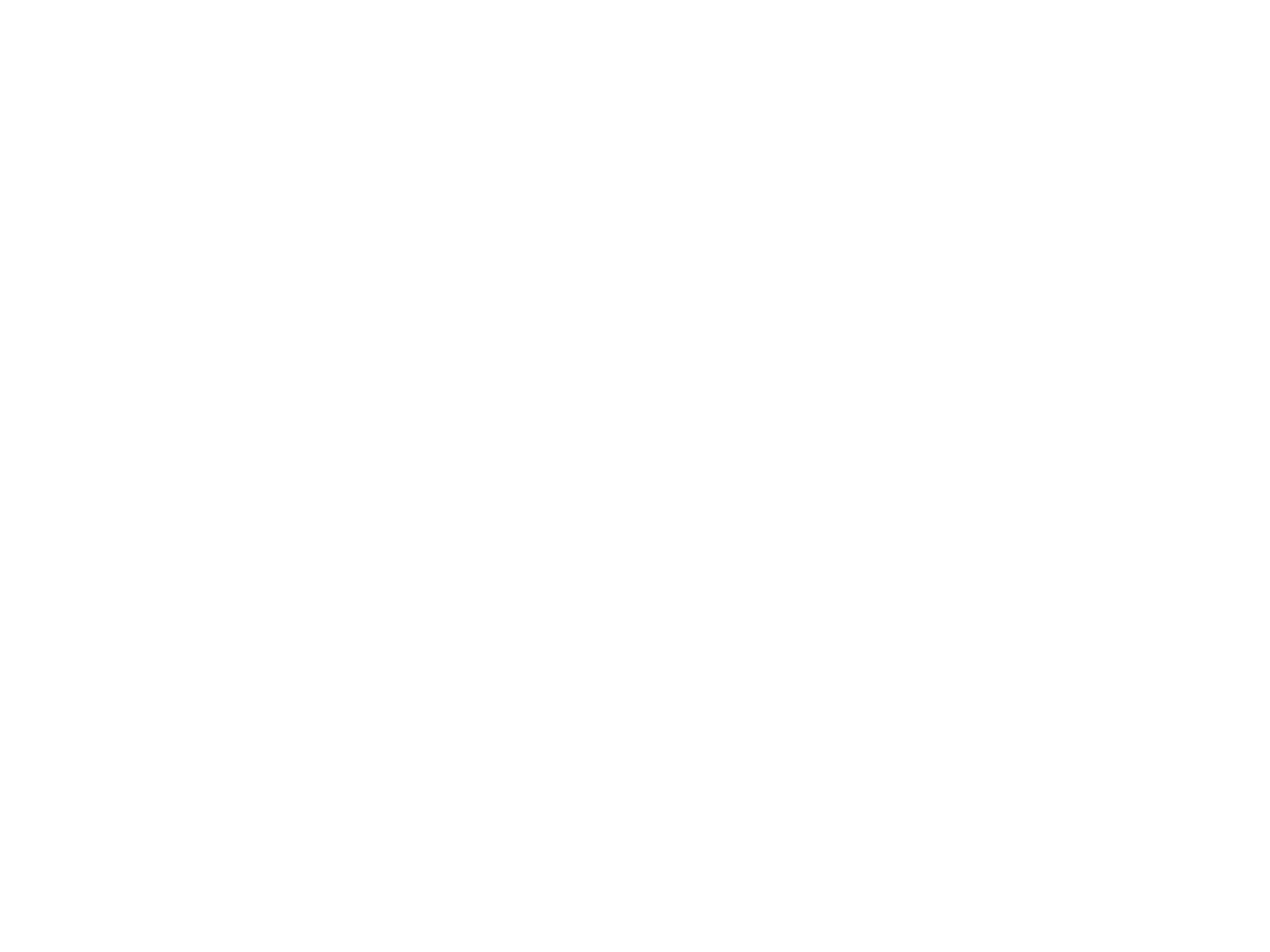
В стенах старинного здания из рыжего битого кирпича куратор Ральф Ругофф выстроил увлекательное шоу, причем больше всего на выставке – новых медиа, объектов и инсталляций. Зрительское внимание сегодня завоевывается иммерсивностью, и искусство продолжает активную экспансию на смежные территории.
Если на прошлой 57 Биеннале было много игровых, легкомысленных, мягких текстильных объектов, то в этот раз все “по-взрослому”. Нынешнюю биеннале я бы назвала “фигуративной”, главная ее тема – человек и его самоидентификация в пространстве и во времени.
Пожалуй, одной из самых прозвучавших работ основного проекта Биеннале оказалась “пара” роботов-перформеров, созданных китайскими художниками Сун Юан и Пен Ю. В Джардини в огромном стеклянном кубе они поместили похожего на миниатюрный экскаватор роботауборщика, который, будто исполняя некий таинственный ритуальный танец – красивый и сложный в своей искусной пластике, большой мягкой щеткой сгребает под себя растекающуюся жирной бордовой лужей субстанцию, похожую на кровь. Он же, ударяя щеткой в пол, разбрызгивает эту жидкость на стены. Плотная толпа людей, стоящих вокруг, наблюдает за этим странным механическим балетом. “Can’t help myself” – так называется эта работа, впервые выставленная в нью-йоркском музее Гуггенхайм в 2016 году. Робот-перформер – посланник искусства нового времени... «Но кто в конце концов более уязвим: несовершенный человек, создающий совершенного робота, или же совершенный робот, управляемый несовершенным человеком», – дает свой комментарий куратор Гуггенхайма Хью Ванг.
Если на прошлой 57 Биеннале было много игровых, легкомысленных, мягких текстильных объектов, то в этот раз все “по-взрослому”. Нынешнюю биеннале я бы назвала “фигуративной”, главная ее тема – человек и его самоидентификация в пространстве и во времени.
Пожалуй, одной из самых прозвучавших работ основного проекта Биеннале оказалась “пара” роботов-перформеров, созданных китайскими художниками Сун Юан и Пен Ю. В Джардини в огромном стеклянном кубе они поместили похожего на миниатюрный экскаватор роботауборщика, который, будто исполняя некий таинственный ритуальный танец – красивый и сложный в своей искусной пластике, большой мягкой щеткой сгребает под себя растекающуюся жирной бордовой лужей субстанцию, похожую на кровь. Он же, ударяя щеткой в пол, разбрызгивает эту жидкость на стены. Плотная толпа людей, стоящих вокруг, наблюдает за этим странным механическим балетом. “Can’t help myself” – так называется эта работа, впервые выставленная в нью-йоркском музее Гуггенхайм в 2016 году. Робот-перформер – посланник искусства нового времени... «Но кто в конце концов более уязвим: несовершенный человек, создающий совершенного робота, или же совершенный робот, управляемый несовершенным человеком», – дает свой комментарий куратор Гуггенхайма Хью Ванг.

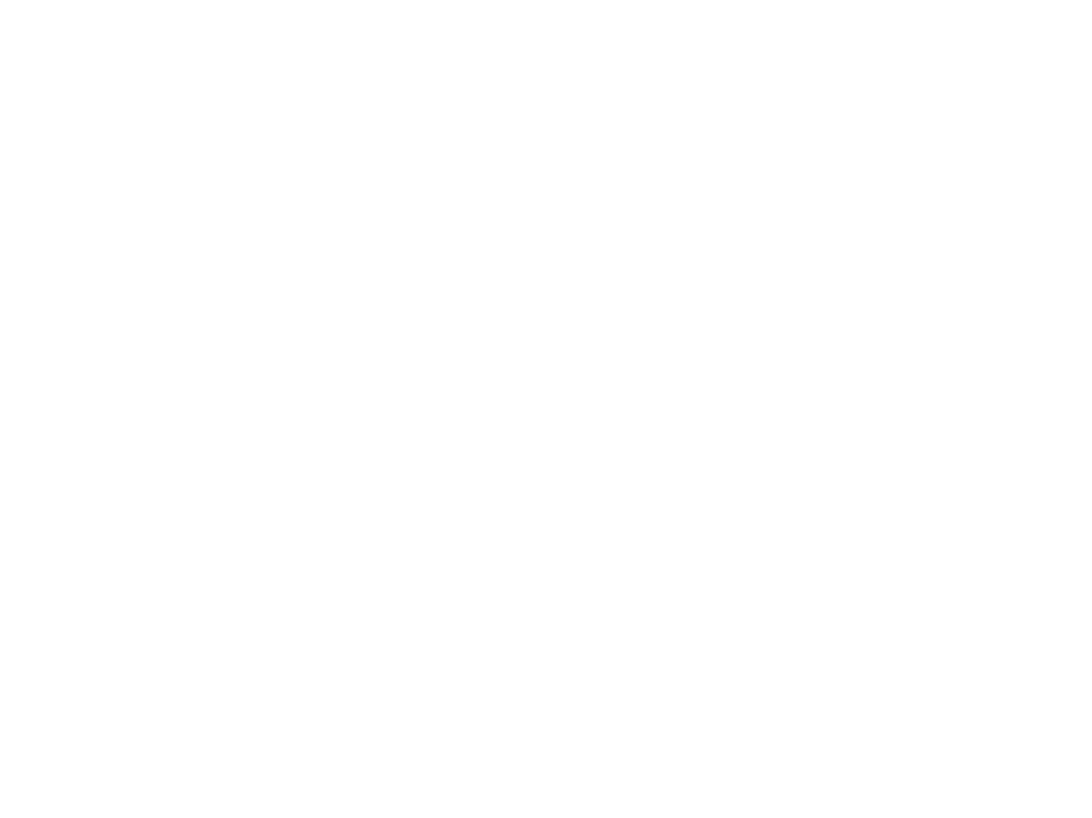
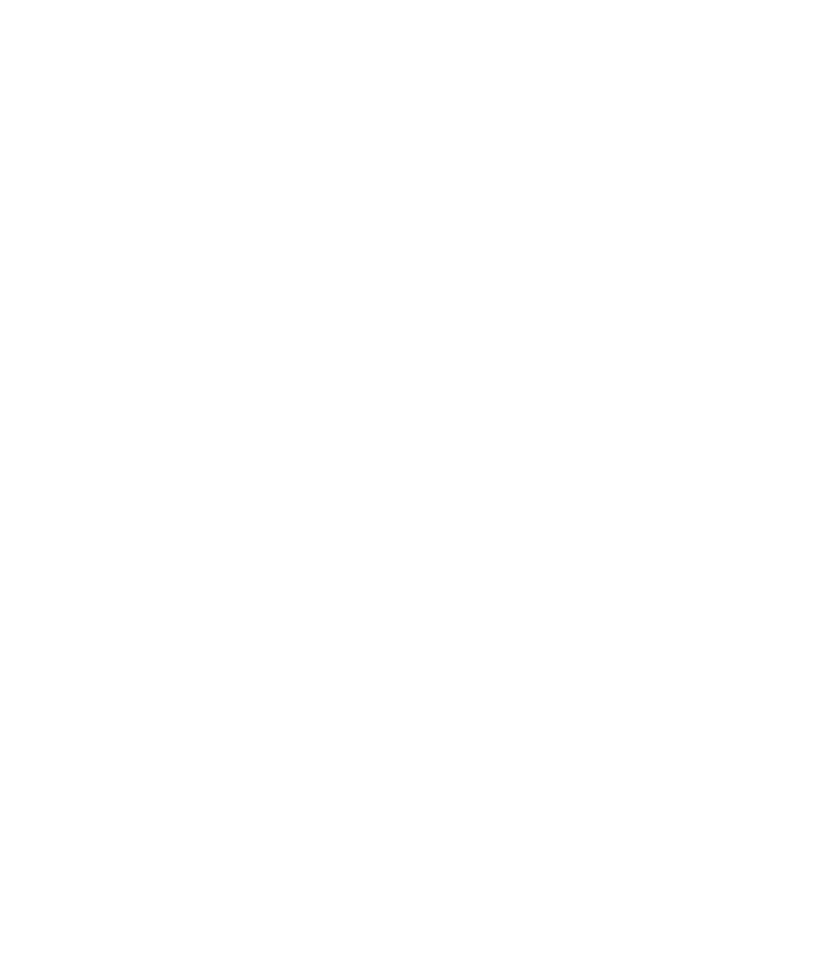
В Арсенале под стеклянным саркофагом художники Сун Юан и Пен Ю установили большой Императорский римский трон из белого мрамора. Трон пуст, лишь черный резиновый шланг, выходящий из его недр, свернулся клубком на холодном сиденье. На первый взгляд тут ничего не происходит, но инсталляция непрерывно звучит. Ровное шипение разносится далеко по павильону. Привлеченные звуком, собираются зрители. Шипение усиливается, внезапно шланг подскакивает и начинает бешено извиваться, мощные струи воздуха хлещут по стенам куба и оставляют между зрителями и троном следы на стекле. Через минуту в шланге кончается давление и он засыпает, обессиленный, в новой нелепой позе.
Эта работа китайских художников заставляет задуматься сразу о многом: о природе власти, об истории прошлой и будущей, о Дионисийских играх и оплодотворении (с этого самого трона?) окружающего мира.
Пройдя Арсенале насквозь, мы выходим на улицу, восстанавливаем силы и отправляемся вдоль залива смотреть национальные павильоны.
Эта работа китайских художников заставляет задуматься сразу о многом: о природе власти, об истории прошлой и будущей, о Дионисийских играх и оплодотворении (с этого самого трона?) окружающего мира.
Пройдя Арсенале насквозь, мы выходим на улицу, восстанавливаем силы и отправляемся вдоль залива смотреть национальные павильоны.
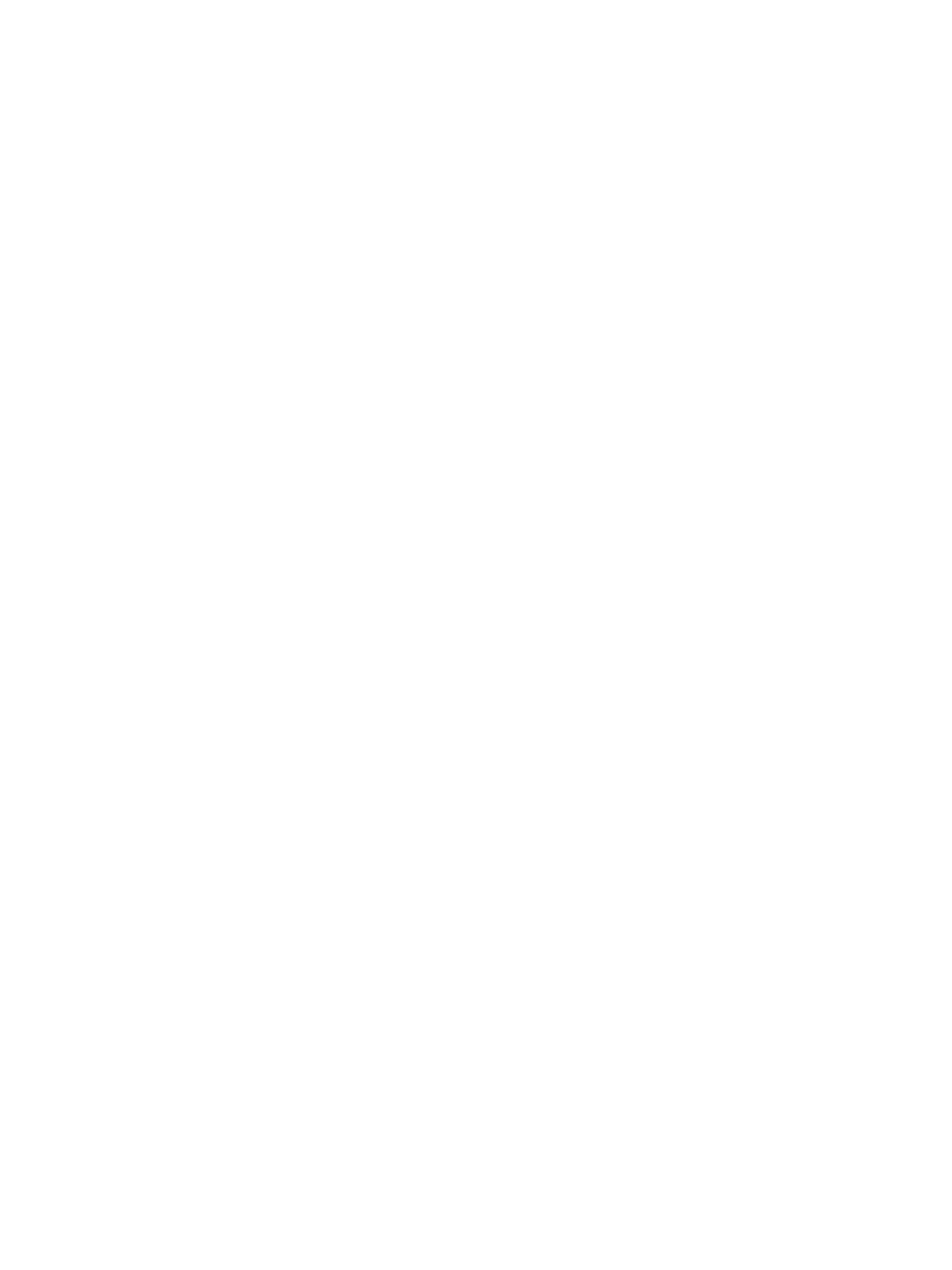
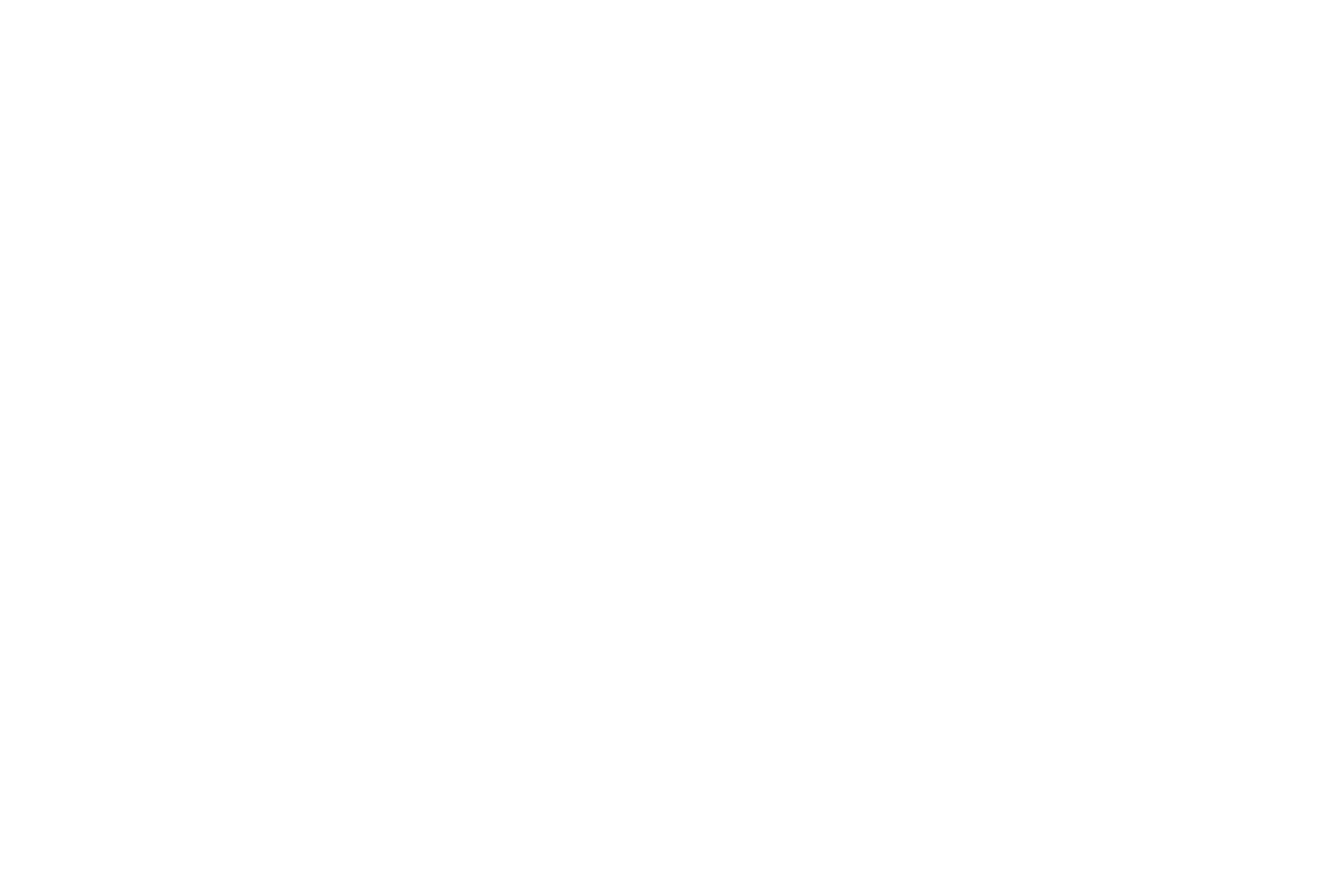
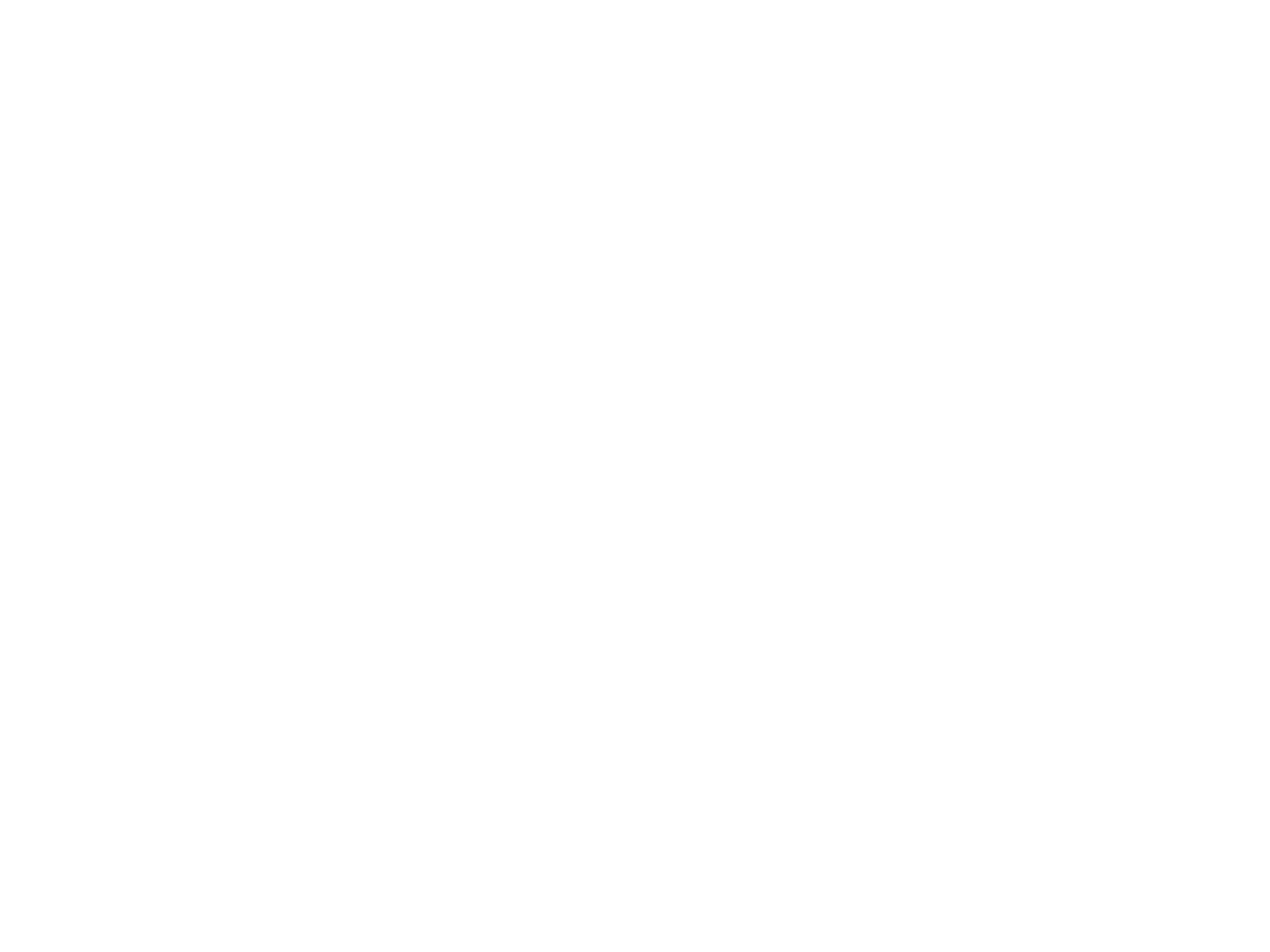
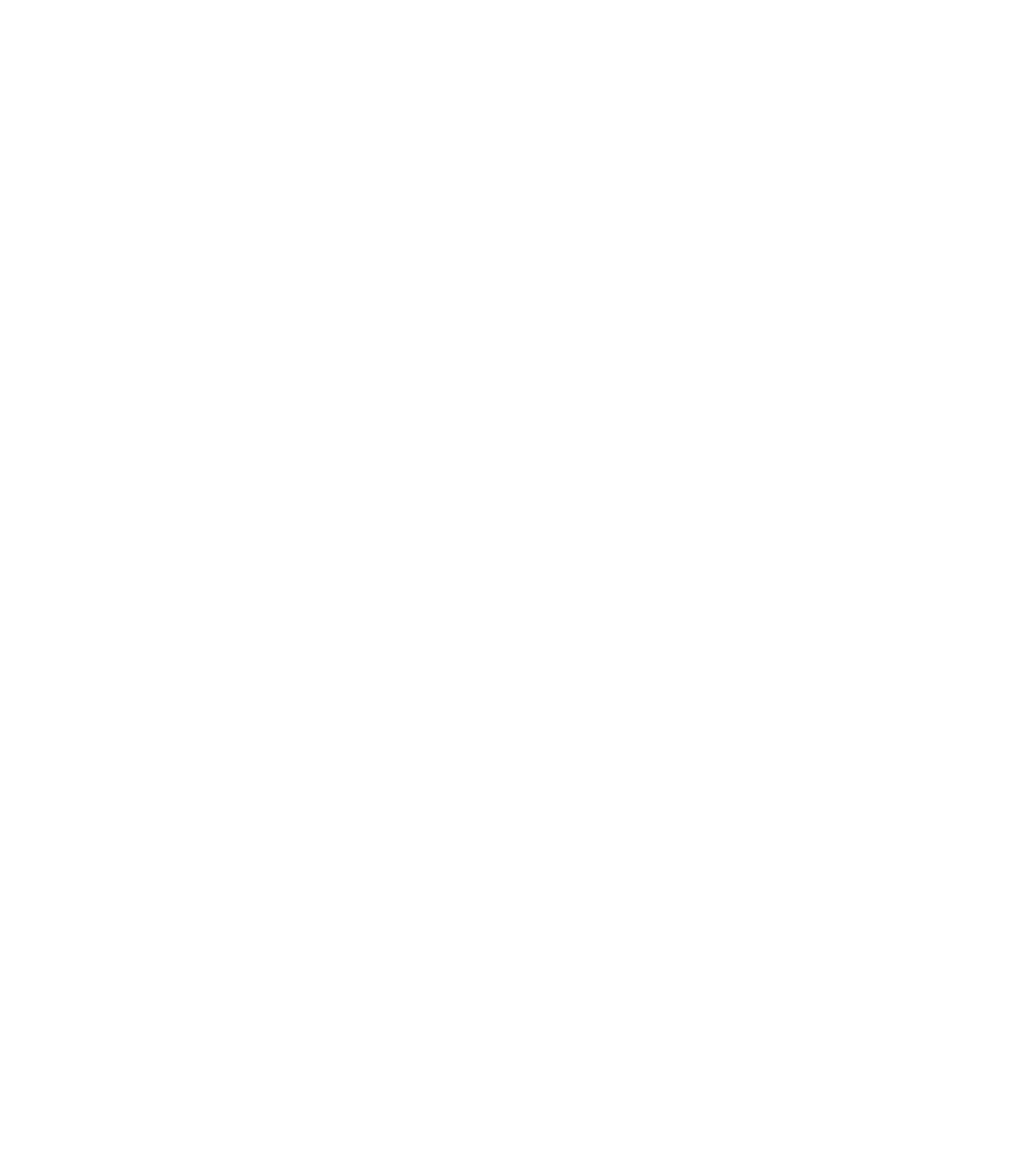
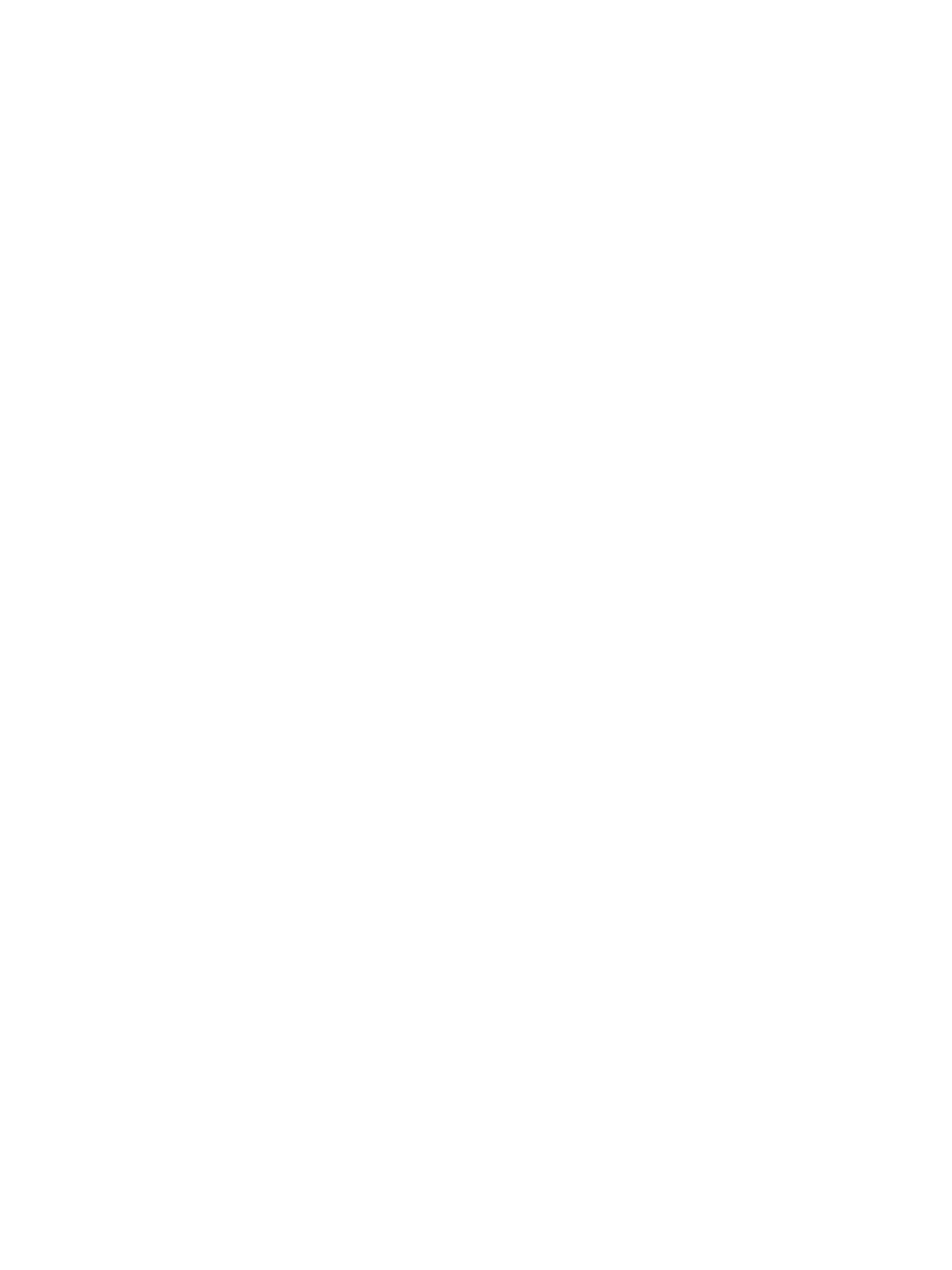
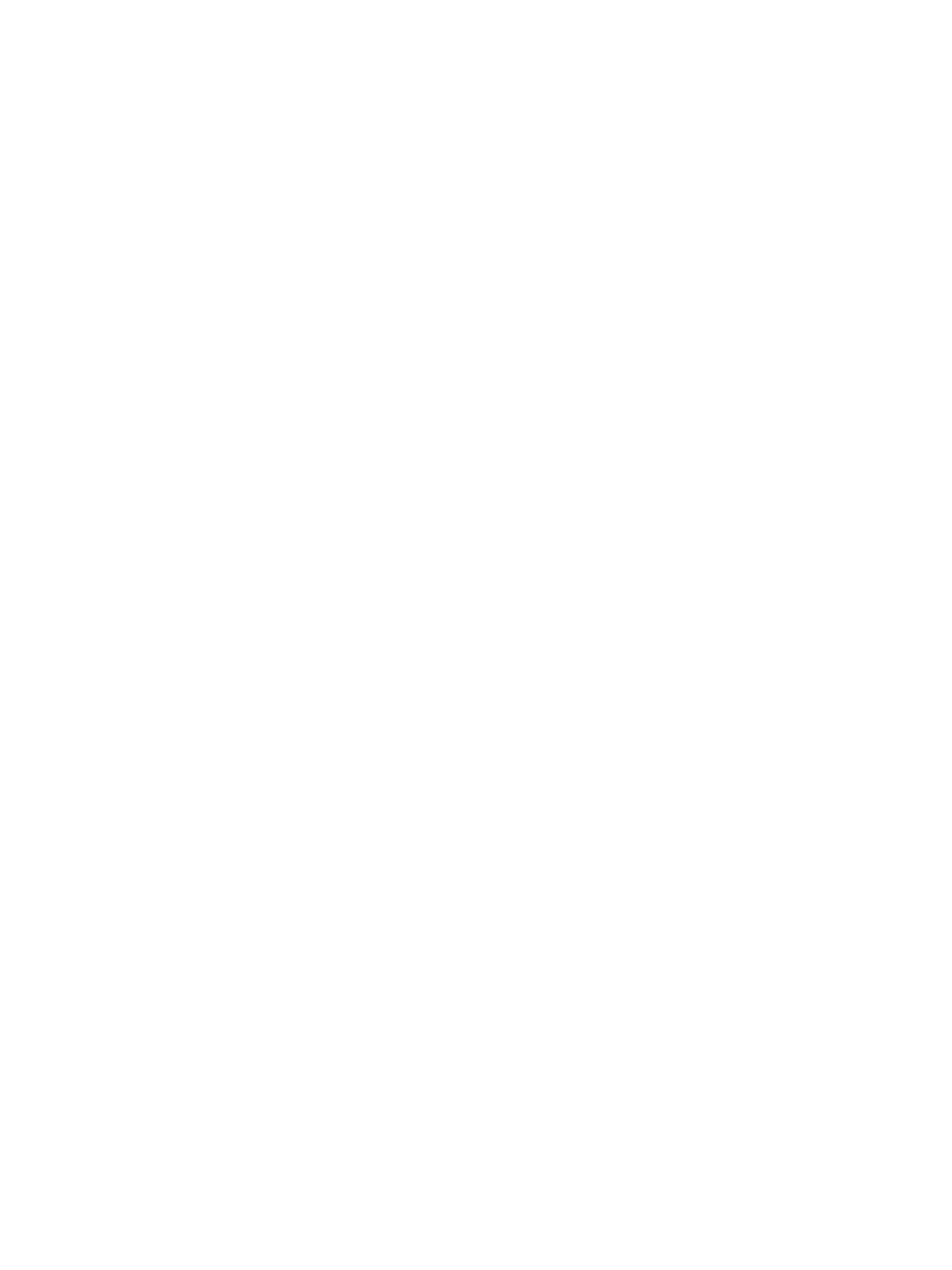
В Арсенале под стеклянным саркофагом художники Сун Юан и Пен Ю установили большой Императорский римский трон из белого мрамора. Трон пуст, лишь черный резиновый шланг, выходящий из его недр, свернулся клубком на холодном сиденье. На первый взгляд тут ничего не происходит, но инсталляция непрерывно звучит. Ровное шипение разносится далеко по павильону. Привлеченные звуком, собираются зрители. Шипение усиливается, внезапно шланг подскакивает и начинает бешено извиваться, мощные струи воздуха хлещут по стенам куба и оставляют между зрителями и троном следы на стекле. Через минуту в шланге кончается давление и он засыпает, обессиленный, в новой нелепой позе.
Эта работа китайских художников заставляет задуматься сразу о многом: о природе власти, об истории прошлой и будущей, о Дионисийских играх и оплодотворении (с этого самого трона?) окружающего мира.
Пройдя Арсенале насквозь, мы выходим на улицу, восстанавливаем силы и отправляемся вдоль залива смотреть национальные павильоны.
Эта работа китайских художников заставляет задуматься сразу о многом: о природе власти, об истории прошлой и будущей, о Дионисийских играх и оплодотворении (с этого самого трона?) окружающего мира.
Пройдя Арсенале насквозь, мы выходим на улицу, восстанавливаем силы и отправляемся вдоль залива смотреть национальные павильоны.
2. Национальные павильоны.
Филиппины. “Островная погода”.
Этот загадочный павильон понравился всем без исключения. В полутемном помещении художник Марк Джустиниани соорудил три больших круглых подиума, перекрытых толстым стеклом. В них спрятана хитроумная система зеркал и многочисленных полочек с инсталляциями из предметов быта, обыденных и в то же время мистических в своих многократных отражениях.
Чтобы взойти на подиум, зрители должны снять обувь, и это простое условие сразу добавляет всему действу значимости и сакральности. Первый шаг все делают с опаской, ведь под ногами - иллюзия бездны. Созданная художником обманка столь достоверна, что кажется, будто сию же минуту ты провалишься в этот туннель, как Кэролловская Алиса в кроличью нору, и полетишь вверх тормашками, хватая с полочек заманчивые предметы... Так просто, и в то же время так неожиданно, так точно: человек “на поверхности” и туннель под его ногами, как аллегория времени, жизни - поколение за поколением, век за веком - проистекающей в отдельно взятой точке пространства…
Филиппинский павильон был отмечен в числе лучших как в нашей, так и в западной прессе. Включив его в топ-5 Биеннале, Джеки Вульшлегер из Financial Times написала следующее: «Проект Джустиниани кружит голову и опьяняет. Привезите его, пожалуйста, в Тейт Модерн».
Чтобы взойти на подиум, зрители должны снять обувь, и это простое условие сразу добавляет всему действу значимости и сакральности. Первый шаг все делают с опаской, ведь под ногами - иллюзия бездны. Созданная художником обманка столь достоверна, что кажется, будто сию же минуту ты провалишься в этот туннель, как Кэролловская Алиса в кроличью нору, и полетишь вверх тормашками, хватая с полочек заманчивые предметы... Так просто, и в то же время так неожиданно, так точно: человек “на поверхности” и туннель под его ногами, как аллегория времени, жизни - поколение за поколением, век за веком - проистекающей в отдельно взятой точке пространства…
Филиппинский павильон был отмечен в числе лучших как в нашей, так и в западной прессе. Включив его в топ-5 Биеннале, Джеки Вульшлегер из Financial Times написала следующее: «Проект Джустиниани кружит голову и опьяняет. Привезите его, пожалуйста, в Тейт Модерн».
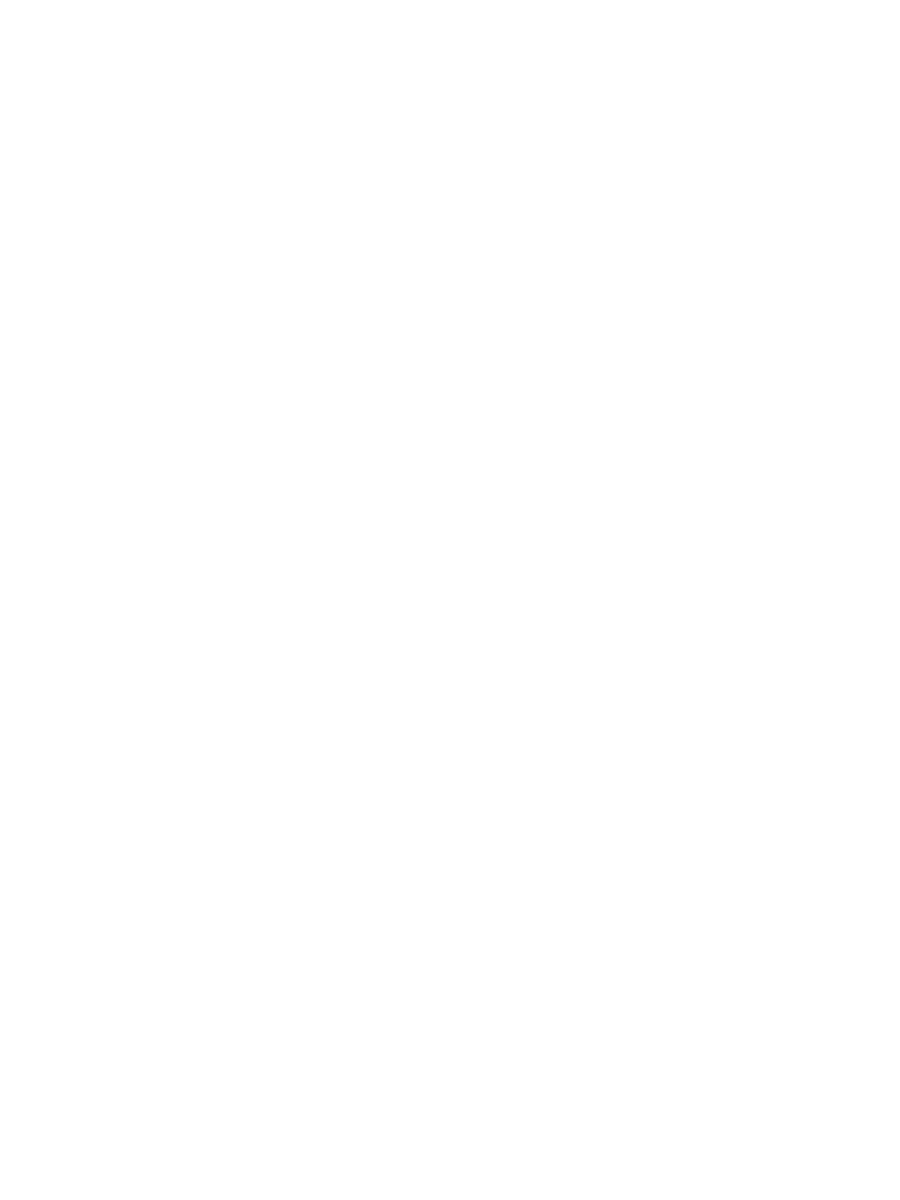
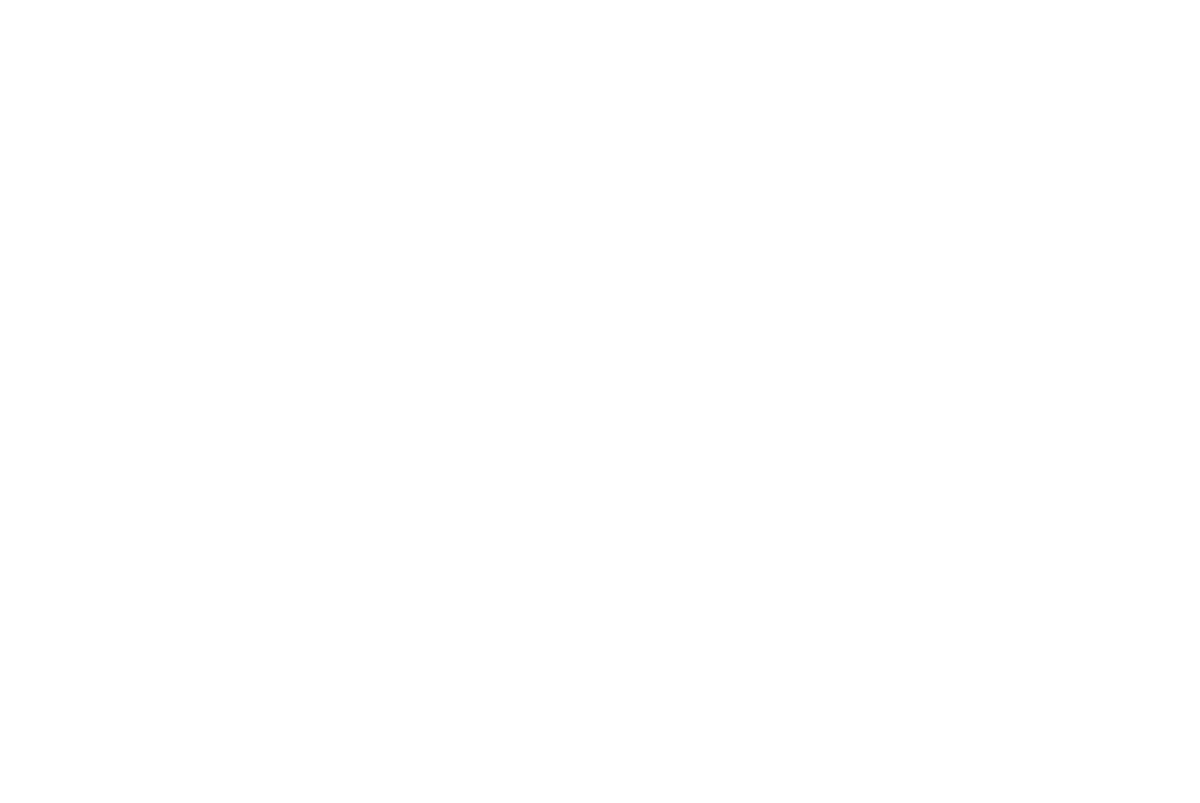
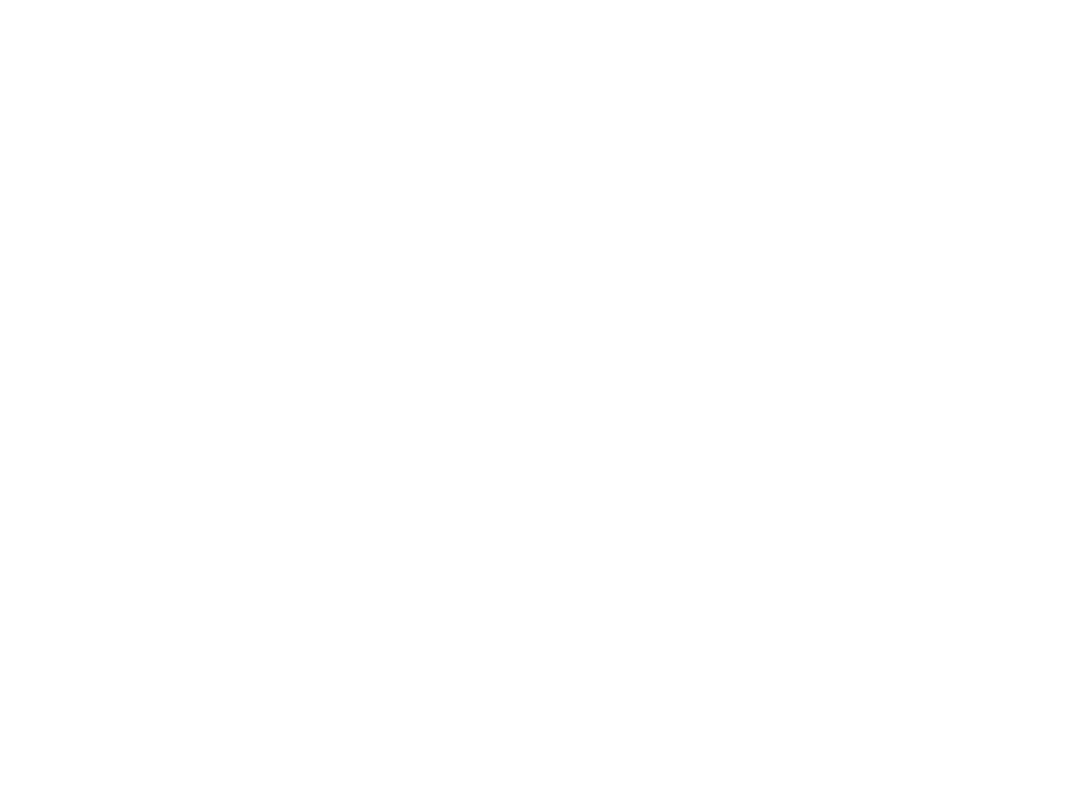
Этот загадочный павильон понравился всем без исключения. В полутемном помещении художник Марк Джустиниани соорудил три больших круглых подиума, перекрытых толстым стеклом. В них спрятана хитроумная система зеркал и многочисленных полочек с инсталляциями из предметов быта, обыденных и в то же время мистических в своих многократных отражениях.
Чтобы взойти на подиум, зрители должны снять обувь, и это простое условие сразу добавляет всему действу значимости и сакральности. Первый шаг все делают с опаской, ведь под ногами - иллюзия бездны. Созданная художником обманка столь достоверна, что кажется, будто сию же минуту ты провалишься в этот туннель, как Кэролловская Алиса в кроличью нору, и полетишь вверх тормашками, хватая с полочек заманчивые предметы... Так просто, и в то же время так неожиданно, так точно: человек “на поверхности” и туннель под его ногами, как аллегория времени, жизни — поколение за поколением, век за веком — проистекающей в отдельно взятой точке пространства…
Филиппинский павильон был отмечен в числе лучших как в нашей, так и в западной прессе. Включив его в топ-5 Биеннале, Джеки Вульшлегер из Financial Times написала следующее: «Проект Джустиниани кружит голову и опьяняет. Привезите его, пожалуйста, в Тейт Модерн».
Чтобы взойти на подиум, зрители должны снять обувь, и это простое условие сразу добавляет всему действу значимости и сакральности. Первый шаг все делают с опаской, ведь под ногами - иллюзия бездны. Созданная художником обманка столь достоверна, что кажется, будто сию же минуту ты провалишься в этот туннель, как Кэролловская Алиса в кроличью нору, и полетишь вверх тормашками, хватая с полочек заманчивые предметы... Так просто, и в то же время так неожиданно, так точно: человек “на поверхности” и туннель под его ногами, как аллегория времени, жизни — поколение за поколением, век за веком — проистекающей в отдельно взятой точке пространства…
Филиппинский павильон был отмечен в числе лучших как в нашей, так и в западной прессе. Включив его в топ-5 Биеннале, Джеки Вульшлегер из Financial Times написала следующее: «Проект Джустиниани кружит голову и опьяняет. Привезите его, пожалуйста, в Тейт Модерн».
Франция. “Глубокое синее море вокруг тебя”.
Вопрос национальной идентичности, ее природы и границ актуален сегодня для Франции как никогда прежде. Проект “Глубокое синее море вокруг тебя” художницы Лор Пруво дает неожиданный взгляд на проблему, говоря об абсурдности таких понятий, как национальность и граница в нашей ежесекундно меняющейся реальности.
В интервью журналу Numero Лор Пруво объясняет: «Море – это прямая метафора нашего бессознательного, так как это единственное место на земле, которое по сей день остается неизведанным. Проблема нашей идентификации: как она формируется, как выражается, как воспринимается окружающими – вот темы, с которыми мы работаем, но главный вопрос, к которому мы подводим нашего зрителя: “Что значит для нас сегодня представлять нацию?”»
Парадный вход в павильон функционирует в этом году исключительно как выход. Очередь – самая длинная в Джардини – ныряет в густые заросли кустарника, змеится по узкой песчаной тропе и, наконец, через техническую дверь (как бы “незаконно”), попадает внутрь. Пол первого зала покрыт ультрамаринового цвета муранским стеклом, имитирующим водную гладь, в которое художественно закатан мусор: от сигаретных окурков до раскуроченных старых мобильников. Таинственные отсеки с инсталляциямитотемами, шепот и тихое пение наполняют павильон. Кульминацией выставки является фильм, рассказывающий о жизни людей, которых встречает на своем пути главный герой, путешествующий по Франции верхом. Фильм крутят в абсолютно темном зале, превращенном в подобие брюха осьминога: так Пруво погружает зрителей внутрь неизведанного существа для того, “чтобы мы поняли, кем являемся”.
В интервью журналу Numero Лор Пруво объясняет: «Море – это прямая метафора нашего бессознательного, так как это единственное место на земле, которое по сей день остается неизведанным. Проблема нашей идентификации: как она формируется, как выражается, как воспринимается окружающими – вот темы, с которыми мы работаем, но главный вопрос, к которому мы подводим нашего зрителя: “Что значит для нас сегодня представлять нацию?”»
Парадный вход в павильон функционирует в этом году исключительно как выход. Очередь – самая длинная в Джардини – ныряет в густые заросли кустарника, змеится по узкой песчаной тропе и, наконец, через техническую дверь (как бы “незаконно”), попадает внутрь. Пол первого зала покрыт ультрамаринового цвета муранским стеклом, имитирующим водную гладь, в которое художественно закатан мусор: от сигаретных окурков до раскуроченных старых мобильников. Таинственные отсеки с инсталляциямитотемами, шепот и тихое пение наполняют павильон. Кульминацией выставки является фильм, рассказывающий о жизни людей, которых встречает на своем пути главный герой, путешествующий по Франции верхом. Фильм крутят в абсолютно темном зале, превращенном в подобие брюха осьминога: так Пруво погружает зрителей внутрь неизведанного существа для того, “чтобы мы поняли, кем являемся”.
Я сразу же вспомнила Бродского и его “Нового Жюль-Верна”:
"Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я
пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога.
Как протест против общества. Раньше была семья,
но жена и т. д. И ему ничего иного
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.
Осьминог (сокращенно — Ося) карает жесткосердье
и гордыню, воцарившиеся на Земле.
Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье"...
пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога.
Как протест против общества. Раньше была семья,
но жена и т. д. И ему ничего иного
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.
Осьминог (сокращенно — Ося) карает жесткосердье
и гордыню, воцарившиеся на Земле.
Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье"...
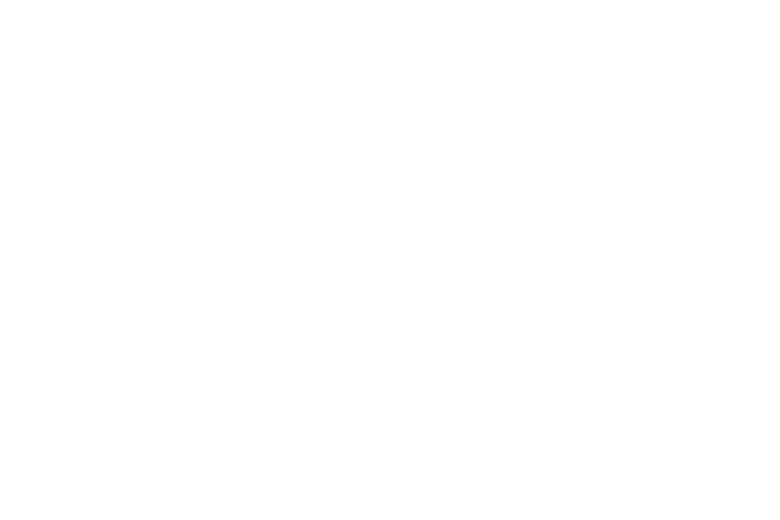
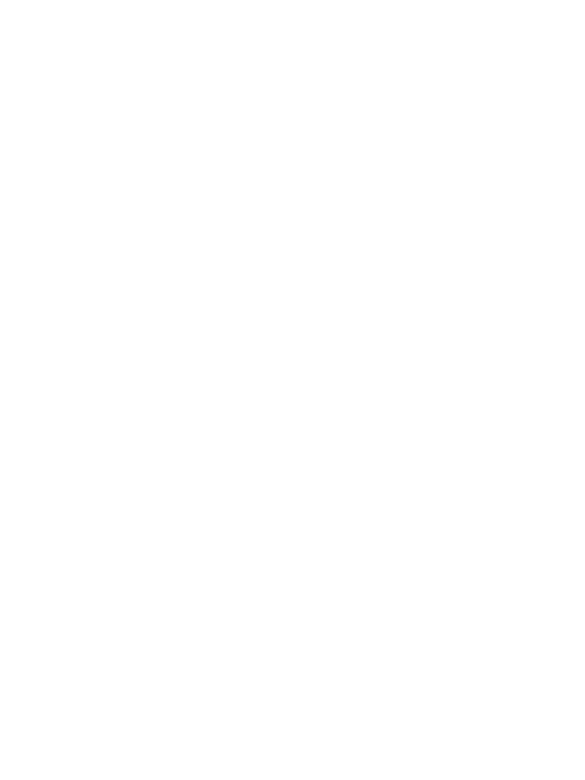
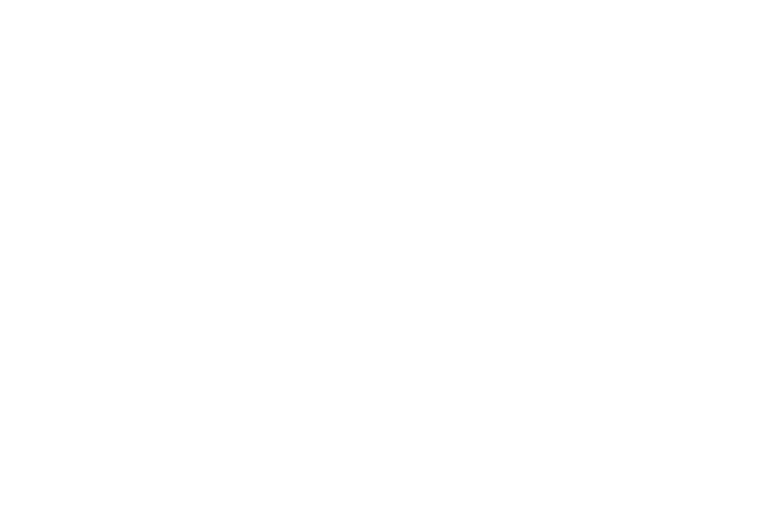
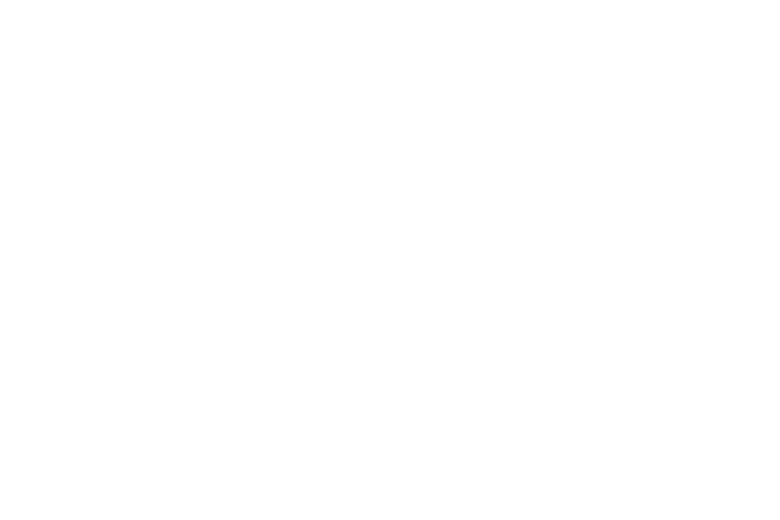
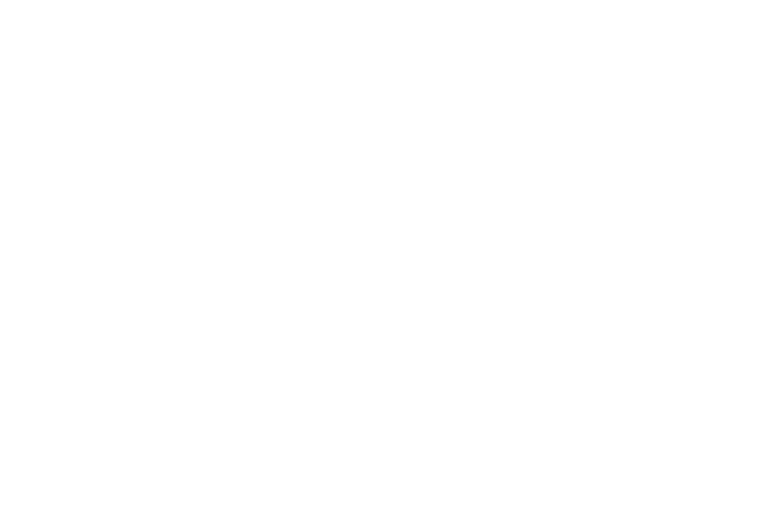
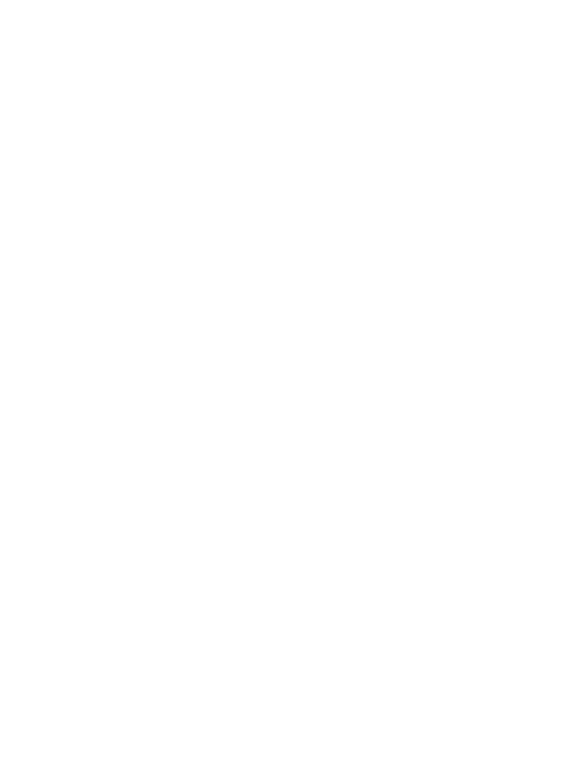
Литва. “Море и Солнце”.
В этом году Литва получила главную награду биеннале – Золотого льва, о павильоне написали все крупнейшие издания.
Художница и композитор Лина Лапелите, драматург Вайва Грайните и театральный режиссер Ругиле Барзджюкайте разыграли свою пляжную оперу на противоположном берегу искусственной акватории Арсенале, в павильоне с большим внутренним двором.
С круговой балюстрады зрители наблюдают за постановкой: отдыхающие внизу на песке люди (обыкновенные разношерстные граждане, одетые в пляжные костюмы, с полотенцами, картами, книгами, лосьонами и ланч-боксами) тихо и торжественно поют об угрозе экологической катастрофы, о стремительном вымирании видов и о прочих актуальных проблемах нашей планеты, о которых большинство предпочитает не то что не петь, но даже и не думать.
«Мы старались найти баланс между грустным и радостным. Слияние театра, музыки, литературы, визуального искусства в “Море и Солнце” является именно тем междисциплинарным сочетанием, которое резонирует, находит отклик у публики в наше время» – объяснила успех проекта павильона Литвы куратор Лючия Пьетрусти. Жаль, что сам перформанс можно было увидеть лишь в дни открытия. Сегодня литовский павильон представляет собой пустой пляж с брошенными лежаками и прочим скарбом, а текст либретто зрителям выдают на входе в распечатанном виде. Впрочем, подобное развитие сюжета вполне укладывается в представленный литовцами апокалиптический сценарий.
Художница и композитор Лина Лапелите, драматург Вайва Грайните и театральный режиссер Ругиле Барзджюкайте разыграли свою пляжную оперу на противоположном берегу искусственной акватории Арсенале, в павильоне с большим внутренним двором.
С круговой балюстрады зрители наблюдают за постановкой: отдыхающие внизу на песке люди (обыкновенные разношерстные граждане, одетые в пляжные костюмы, с полотенцами, картами, книгами, лосьонами и ланч-боксами) тихо и торжественно поют об угрозе экологической катастрофы, о стремительном вымирании видов и о прочих актуальных проблемах нашей планеты, о которых большинство предпочитает не то что не петь, но даже и не думать.
«Мы старались найти баланс между грустным и радостным. Слияние театра, музыки, литературы, визуального искусства в “Море и Солнце” является именно тем междисциплинарным сочетанием, которое резонирует, находит отклик у публики в наше время» – объяснила успех проекта павильона Литвы куратор Лючия Пьетрусти. Жаль, что сам перформанс можно было увидеть лишь в дни открытия. Сегодня литовский павильон представляет собой пустой пляж с брошенными лежаками и прочим скарбом, а текст либретто зрителям выдают на входе в распечатанном виде. Впрочем, подобное развитие сюжета вполне укладывается в представленный литовцами апокалиптический сценарий.
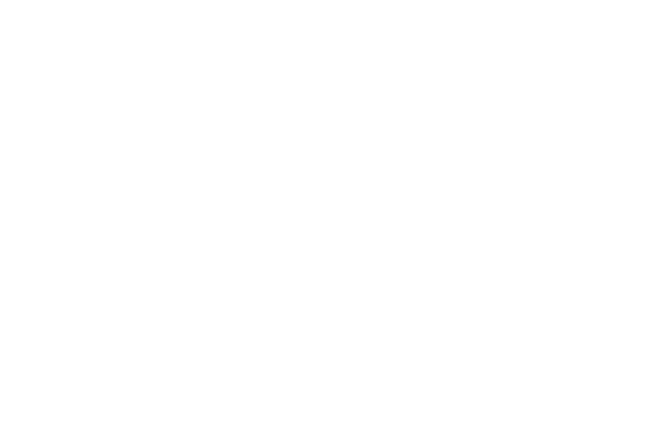
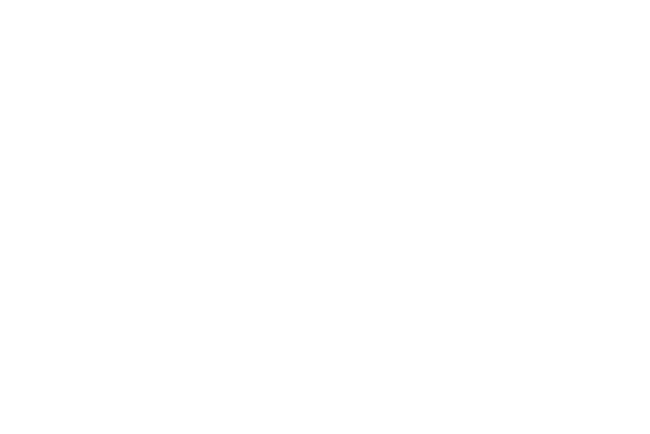
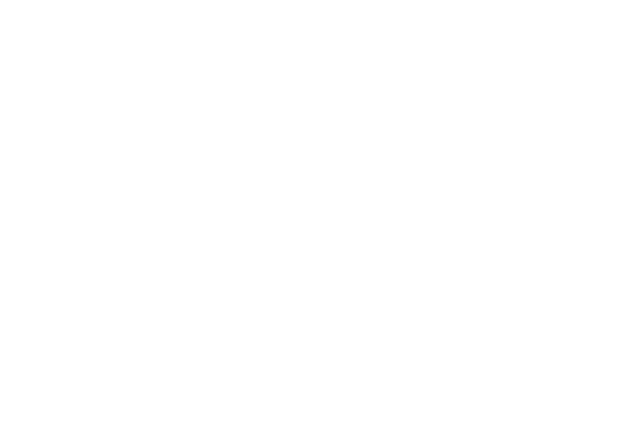
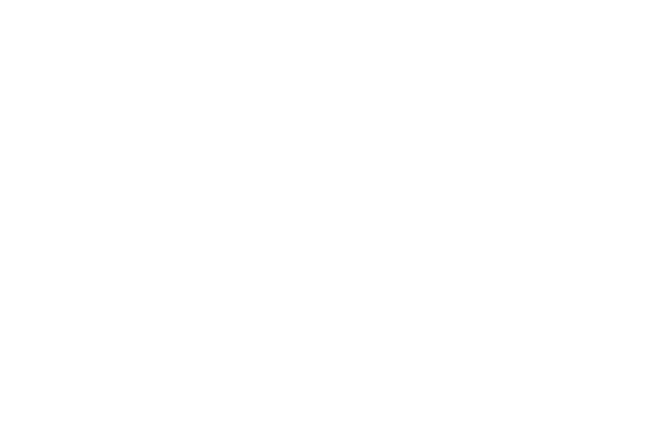
Америка. “Свобода”.
От выставки с названием “Свобода” в Американском павильоне ждешь громких слов об идентичности и растиражированных образов. Но, к счастью, их проект о свободе иного порядка. Скульптор Мартин Пурьер (1941) – американский классик, создал свой собственный синтез концептуализма и символизма, минимализма и изощренной пластики.
Он работает с бронзой, деревом и железом, минералами и текстилем, соединяя эти первоматериалы с причудливыми историями-легендами из разных времен и культур. Скульптуры, тотемы, наделенные сакральным смыслом и энергией совершенной формы. Так, расположенная по центру абсолютно пустой ротонды белая деревянная колонна, пронзенная железным ржавым колом, посвящена Салли Хэмингс, афроамериканке, рабыне и «наложнице» Томаса Джефферсона, третьего президента США, работавшей на его плантации в Вирджинии и родившей от него трех детей.
Пара вагонов на наклоненном постаменте напоминает об опасных путешествиях американских первооткрывателей, а также о современных мигрантах, притесняемых Трампом. «Эти медитативные работы, на них можно смотреть часами. Их привлекательный внешний облик сочетается с внутренней многослойностью значений, представляет свободу как всеобщую, изначальну , а не только американскую идентичность», – написала The Art Newspaper.
В 1989 Мартин Пурьер представлял США на Биеннале в Сан-Паоло и выиграл главный приз, а в Нью-Йоркском МОМА в 2007 прошла большая ретроспектива мастера. Выставка хоть и небольшая, но абсолютно музейного уровня, Америке браво. Сам художник оказался настолько застенчивым, что не дал прессе ни одного интервью в дни открытия, предложив журналистам и зрителям самостоятельно интерпретировать его творчество.
Он работает с бронзой, деревом и железом, минералами и текстилем, соединяя эти первоматериалы с причудливыми историями-легендами из разных времен и культур. Скульптуры, тотемы, наделенные сакральным смыслом и энергией совершенной формы. Так, расположенная по центру абсолютно пустой ротонды белая деревянная колонна, пронзенная железным ржавым колом, посвящена Салли Хэмингс, афроамериканке, рабыне и «наложнице» Томаса Джефферсона, третьего президента США, работавшей на его плантации в Вирджинии и родившей от него трех детей.
Пара вагонов на наклоненном постаменте напоминает об опасных путешествиях американских первооткрывателей, а также о современных мигрантах, притесняемых Трампом. «Эти медитативные работы, на них можно смотреть часами. Их привлекательный внешний облик сочетается с внутренней многослойностью значений, представляет свободу как всеобщую, изначальну , а не только американскую идентичность», – написала The Art Newspaper.
В 1989 Мартин Пурьер представлял США на Биеннале в Сан-Паоло и выиграл главный приз, а в Нью-Йоркском МОМА в 2007 прошла большая ретроспектива мастера. Выставка хоть и небольшая, но абсолютно музейного уровня, Америке браво. Сам художник оказался настолько застенчивым, что не дал прессе ни одного интервью в дни открытия, предложив журналистам и зрителям самостоятельно интерпретировать его творчество.
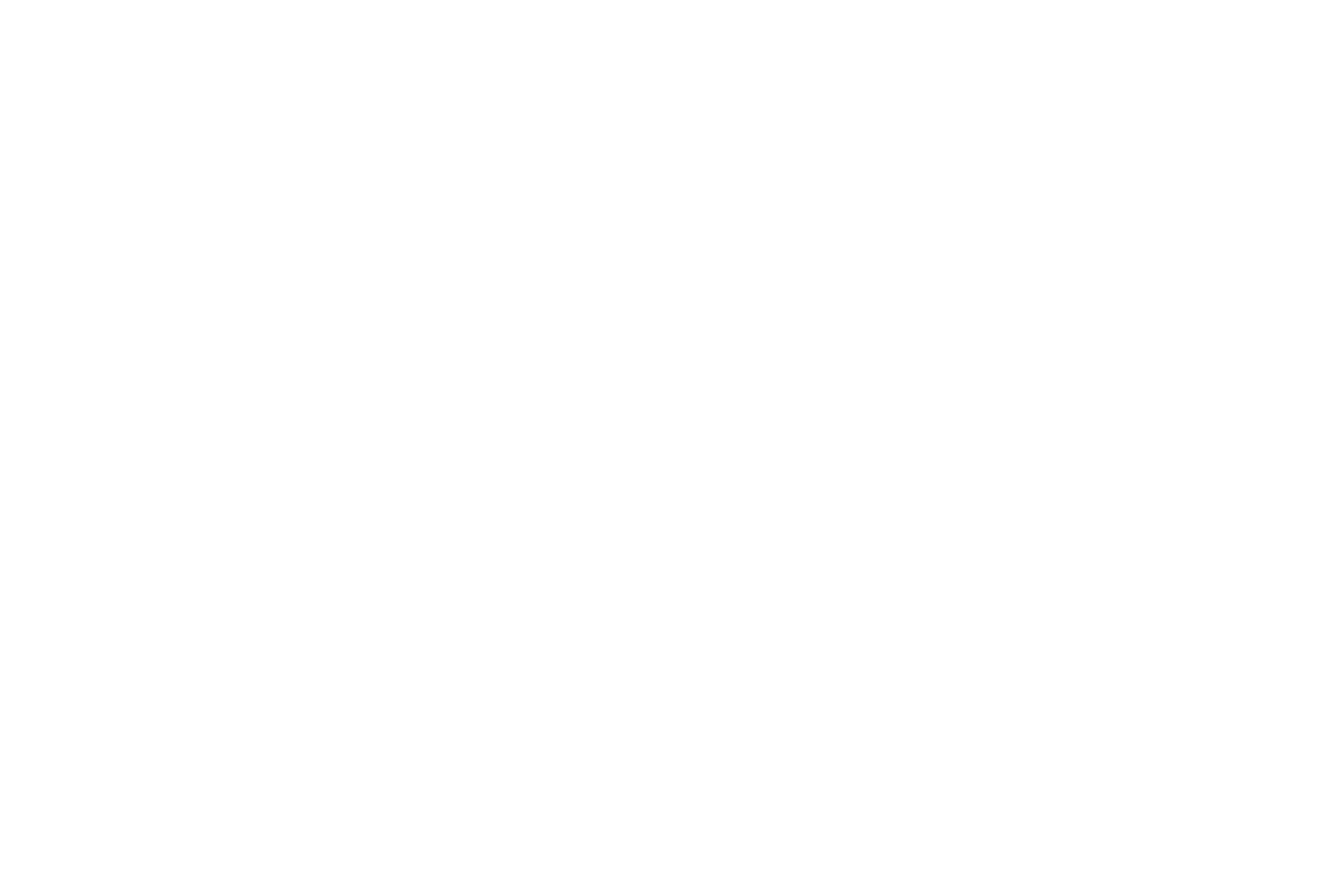
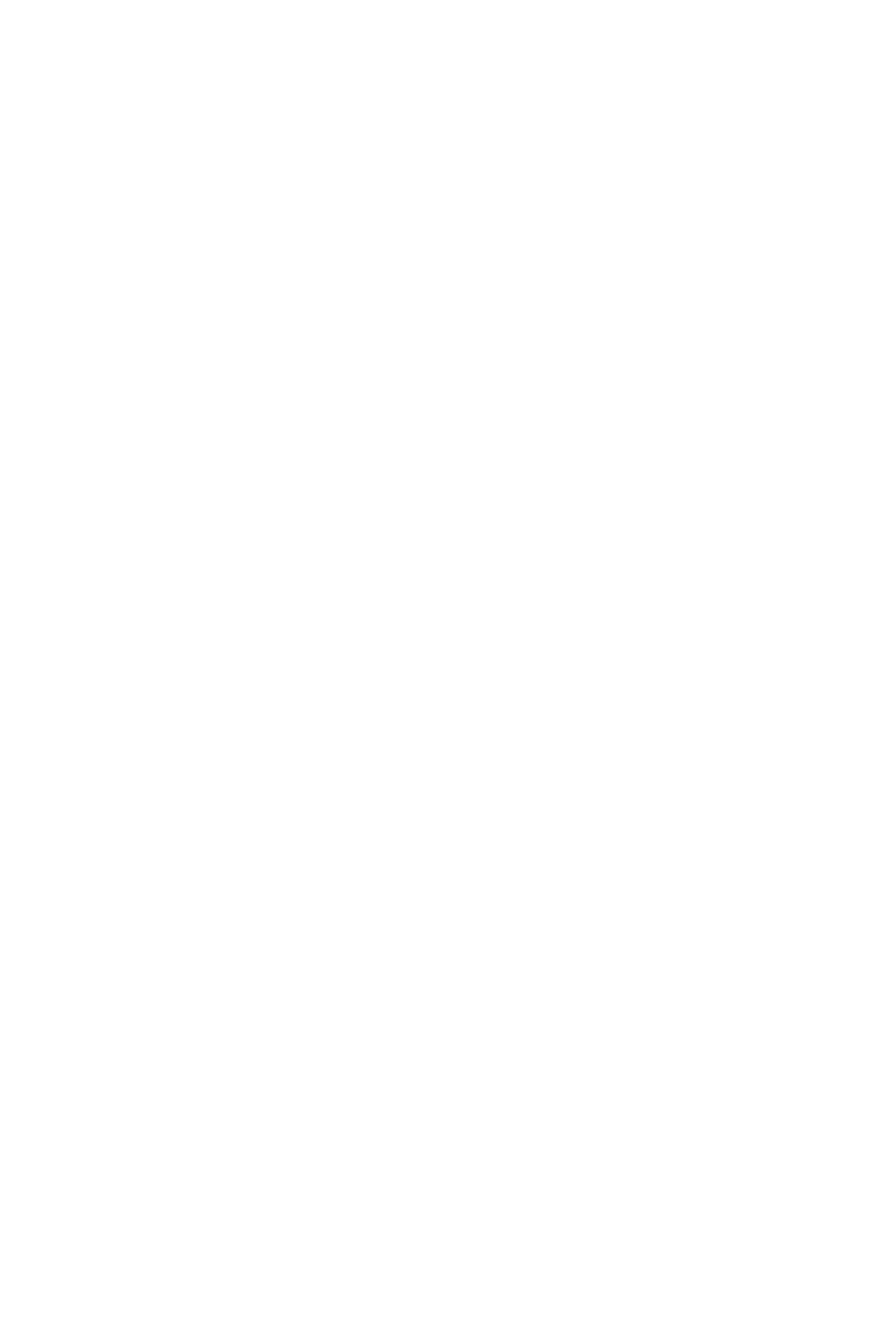
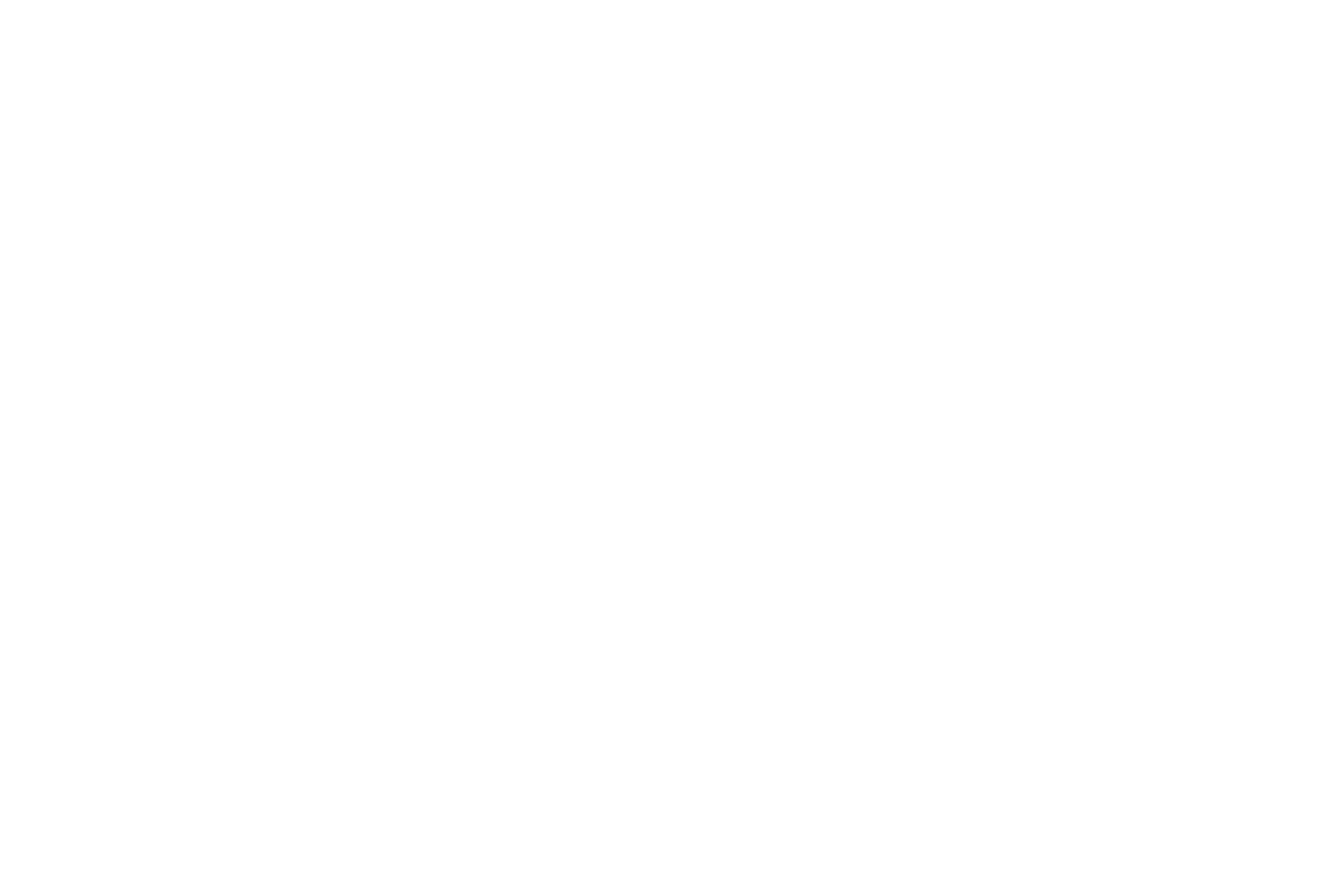
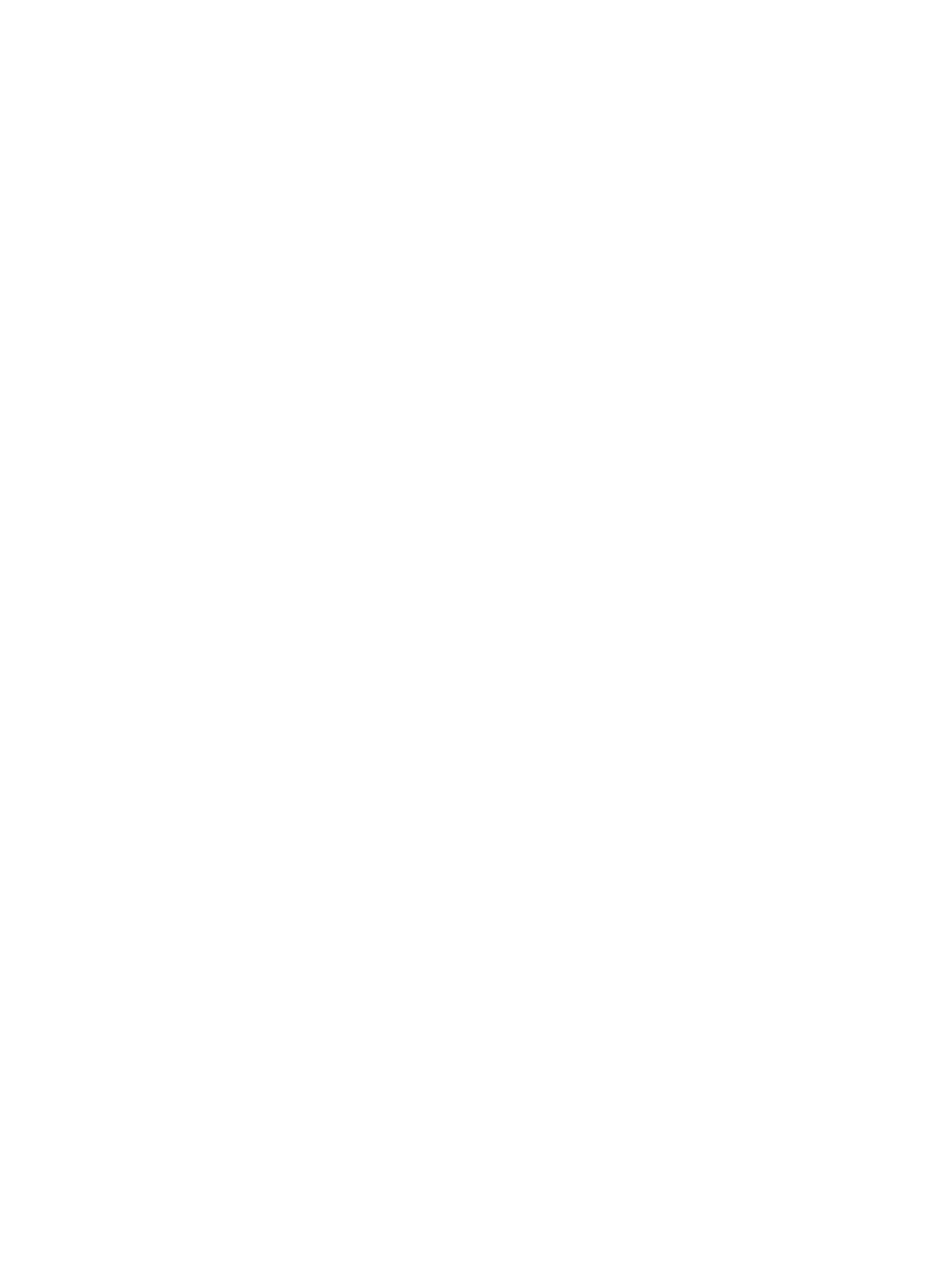
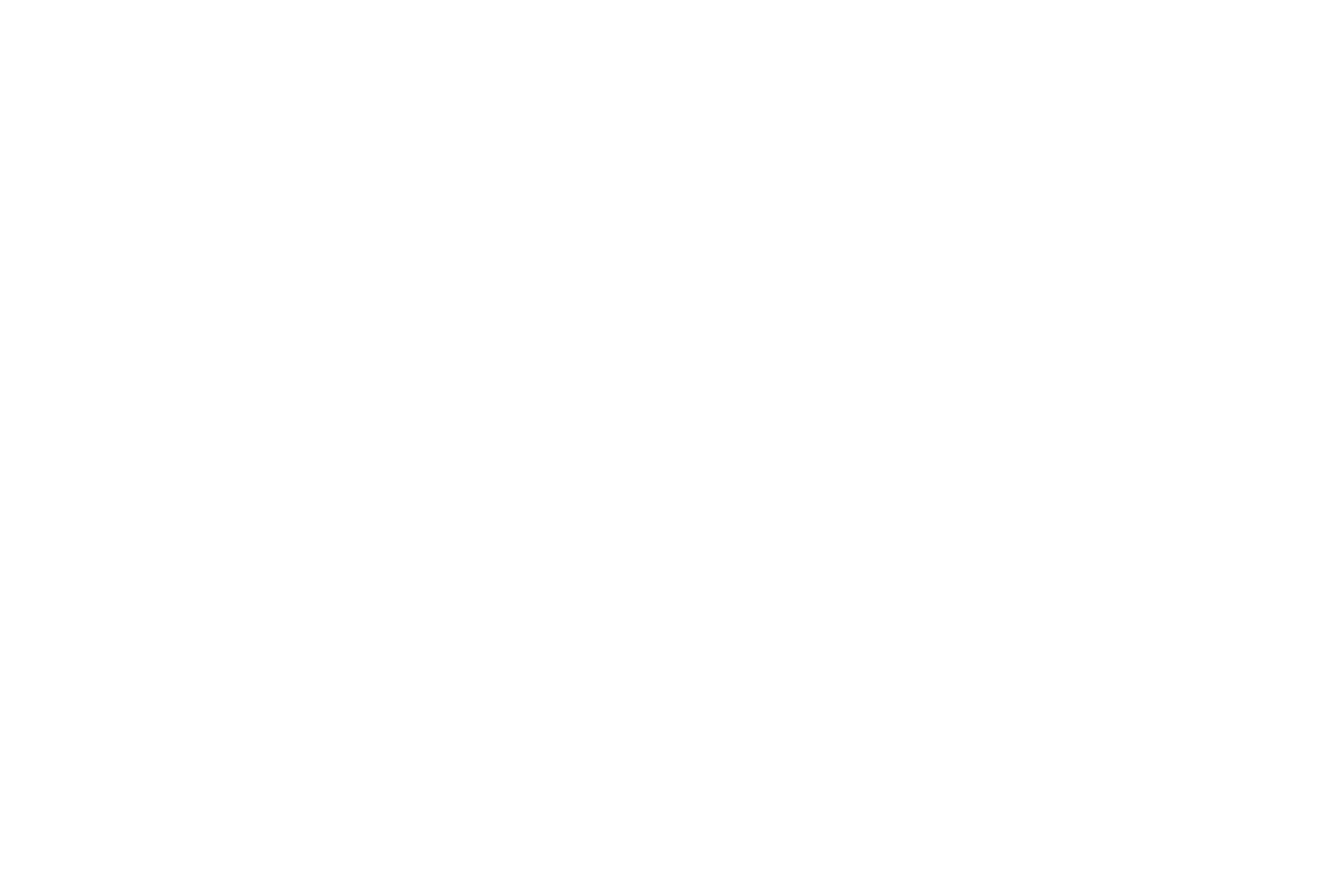
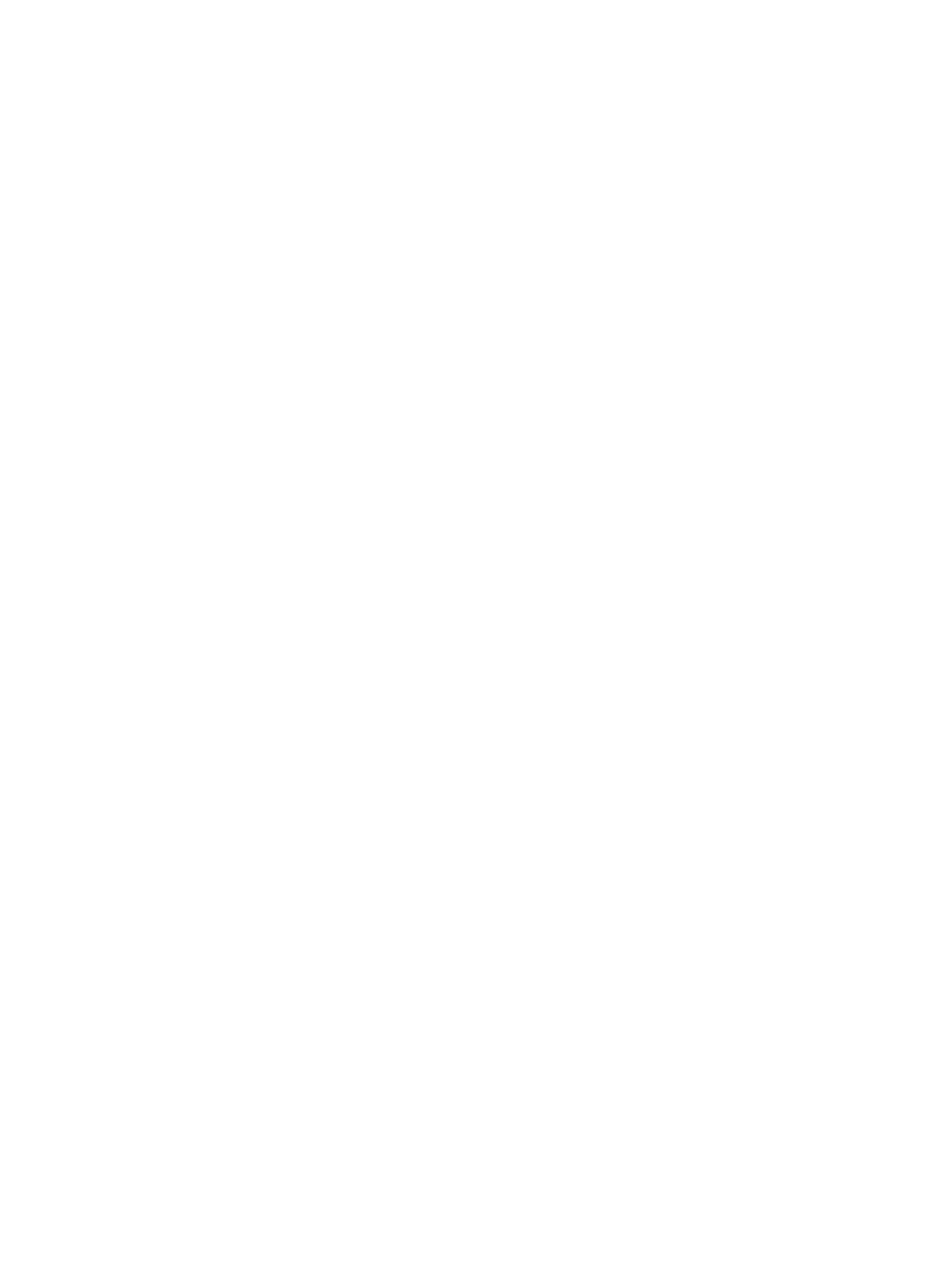
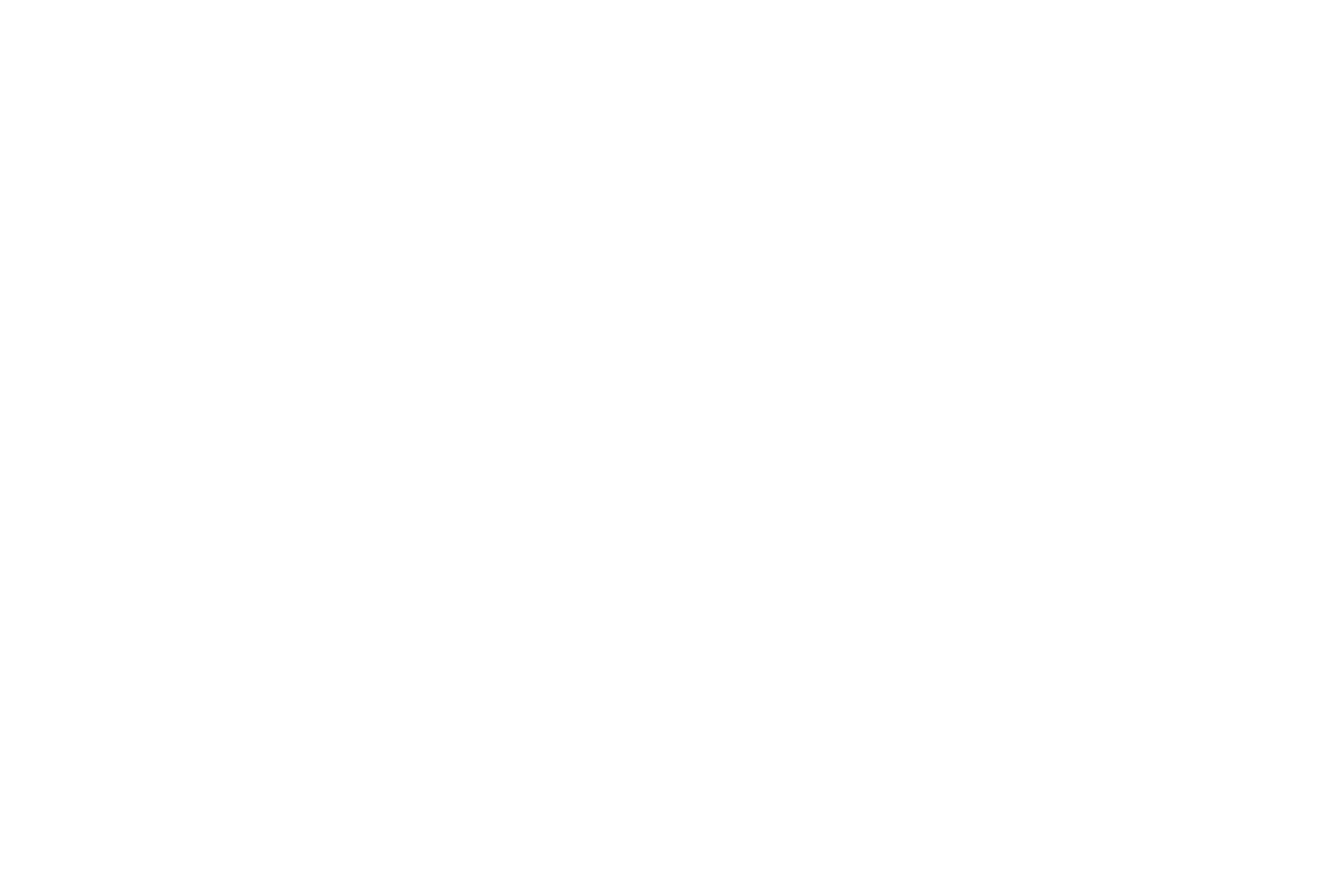
Индия. “Наше время для заботы о будущем”.
Индия, вернувшаяся на Биеннале после восьмилетнего отсутствия, выступила так удачно, что сразу же попала в топ-10 лучших павильонов (рейтинг The Art Newspaper).
На выставке, собранной в память о Махатме Ганди, чье 150-летие празднуется в этом году, кураторы показали семь художников, посвятивших свои работы индийскому герою. Атул Додия в инсталляции «Сломанные ветви» (2002) создал точную копию старых шкафов, обнаруженных им в музее Ганди в Порбандаре и наполнил их символическими предметами: книгами, инструментами, а также личными вещами героя – получилась настоящая кунсткамера. Противоположная стена павильона покрыта сотнями деревянных сандалий-падук, которые будто бы наполняют пространство шумом шагов и говором толпы. Инсталляция так и называется “Мы вместе” (ее автор – Г.И.Иранна) и повествует как о том, что Ганди ходил в деревянной обуви, отказавшись от кожи, так и о силе коллективного марша.
Но самым запоминающимся высказыванием стал темный бокс в центре павильона с “туманным” экраном, на который строка за строкой проецируется письмо, отправленное Ганди Адольфу Гитлеру в июле 1939 года и призывающее остановить “доведение человечества до зверского состояния” (работа “Сопроводительное письмо”, Джитиш Каллат, 2012). Люди заходят в темный бокс и оказываются, фактически, в пространстве текста, начинающегося словами “Дорогой друг! Мои друзья предостерегали меня от того, чтобы я писал тебе это письмо, но…” Затем зритель подходит к экрану ближе и – неожиданно – проходит сквозь него, растворяясь в тумане. Кое-кто возвращается из серой мглы, большинство – исчезают навсегда (выход из бокса находится с противоположной стороны, “за спиной” экрана). Даже невнимательный, не читающий экспликаций зритель попадает под магию этой работы. Уходить из индийского павильона не хочется, такой он получился разнообразный, таинственный и интересный.
На выставке, собранной в память о Махатме Ганди, чье 150-летие празднуется в этом году, кураторы показали семь художников, посвятивших свои работы индийскому герою. Атул Додия в инсталляции «Сломанные ветви» (2002) создал точную копию старых шкафов, обнаруженных им в музее Ганди в Порбандаре и наполнил их символическими предметами: книгами, инструментами, а также личными вещами героя – получилась настоящая кунсткамера. Противоположная стена павильона покрыта сотнями деревянных сандалий-падук, которые будто бы наполняют пространство шумом шагов и говором толпы. Инсталляция так и называется “Мы вместе” (ее автор – Г.И.Иранна) и повествует как о том, что Ганди ходил в деревянной обуви, отказавшись от кожи, так и о силе коллективного марша.
Но самым запоминающимся высказыванием стал темный бокс в центре павильона с “туманным” экраном, на который строка за строкой проецируется письмо, отправленное Ганди Адольфу Гитлеру в июле 1939 года и призывающее остановить “доведение человечества до зверского состояния” (работа “Сопроводительное письмо”, Джитиш Каллат, 2012). Люди заходят в темный бокс и оказываются, фактически, в пространстве текста, начинающегося словами “Дорогой друг! Мои друзья предостерегали меня от того, чтобы я писал тебе это письмо, но…” Затем зритель подходит к экрану ближе и – неожиданно – проходит сквозь него, растворяясь в тумане. Кое-кто возвращается из серой мглы, большинство – исчезают навсегда (выход из бокса находится с противоположной стороны, “за спиной” экрана). Даже невнимательный, не читающий экспликаций зритель попадает под магию этой работы. Уходить из индийского павильона не хочется, такой он получился разнообразный, таинственный и интересный.
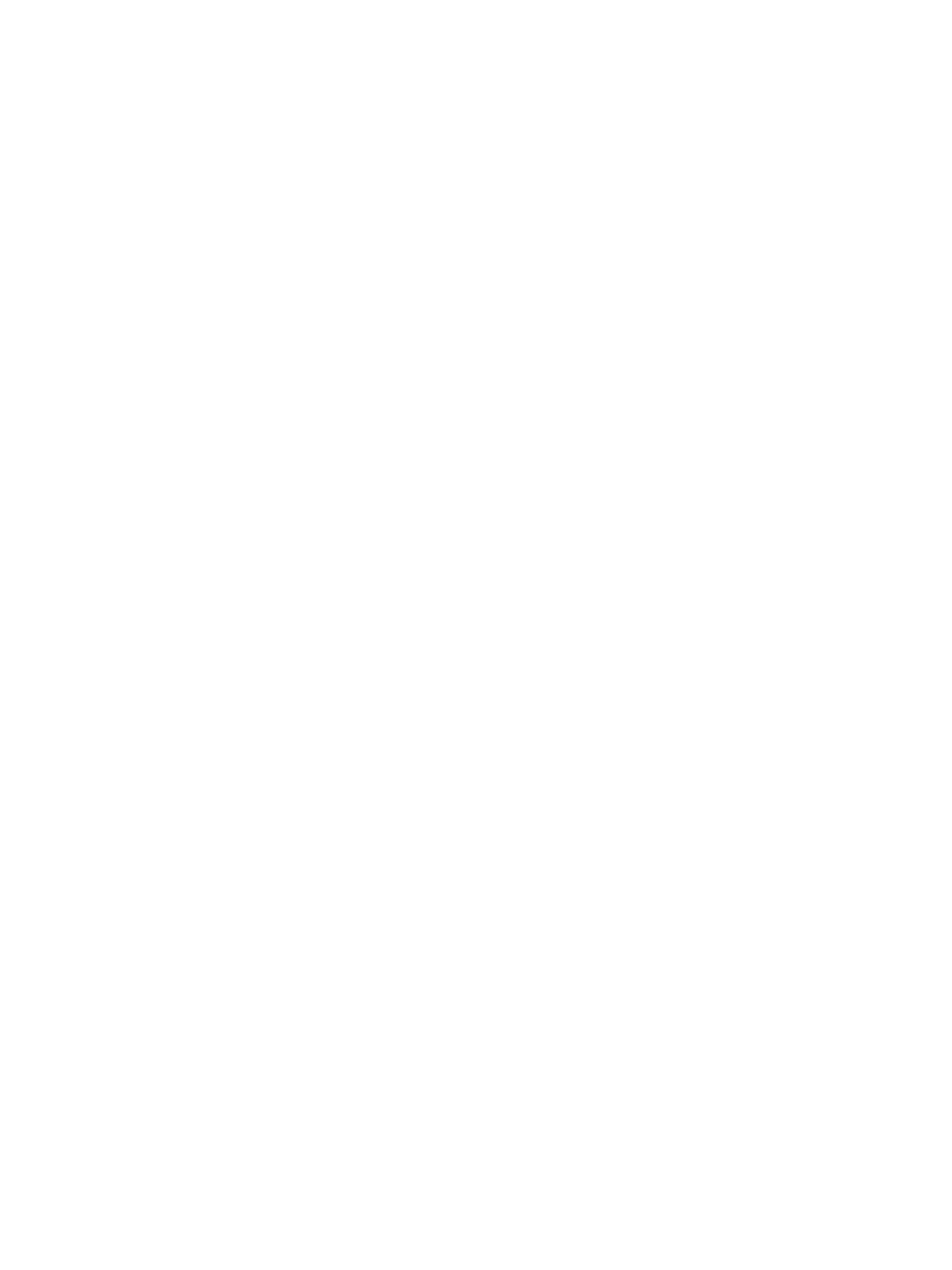
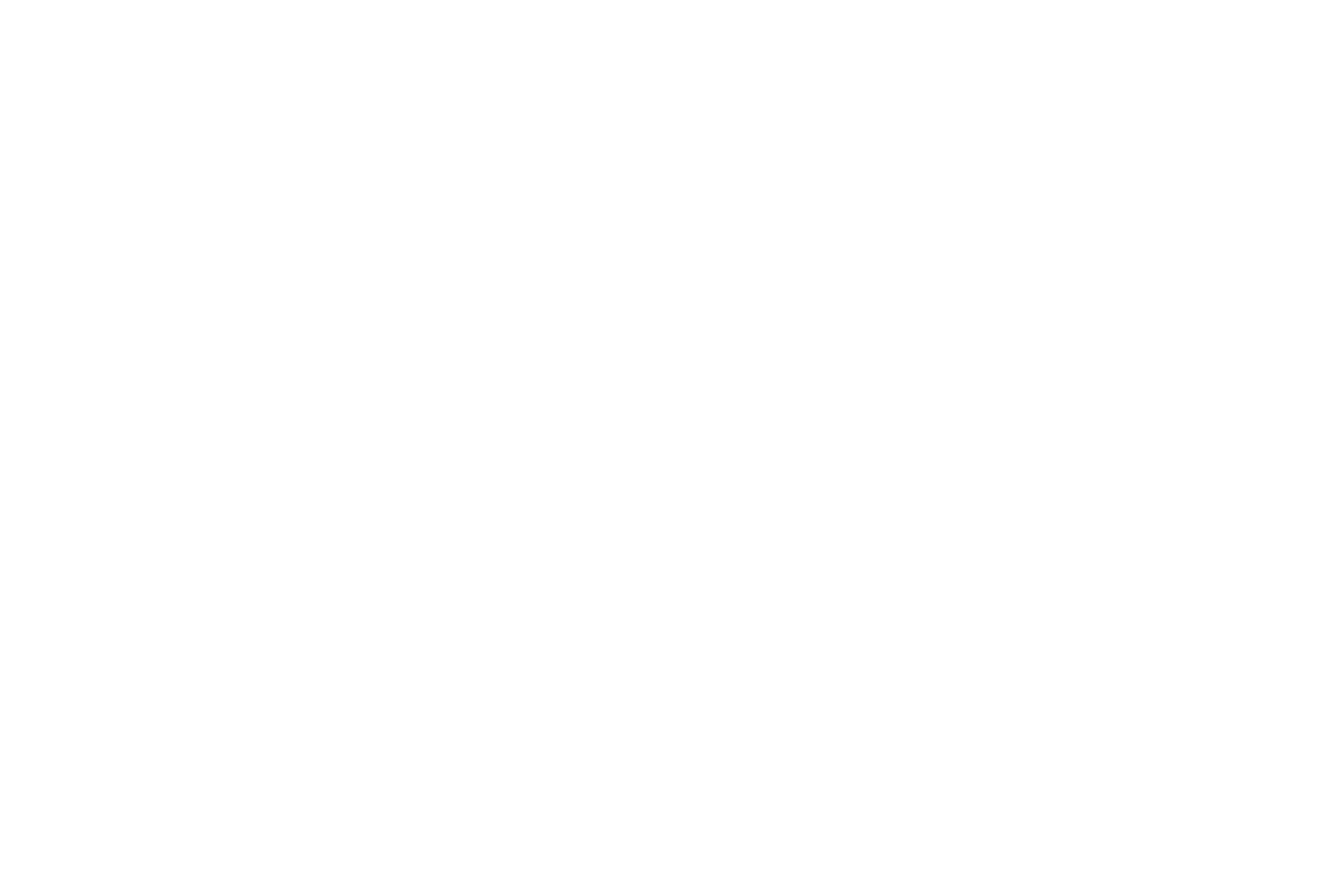
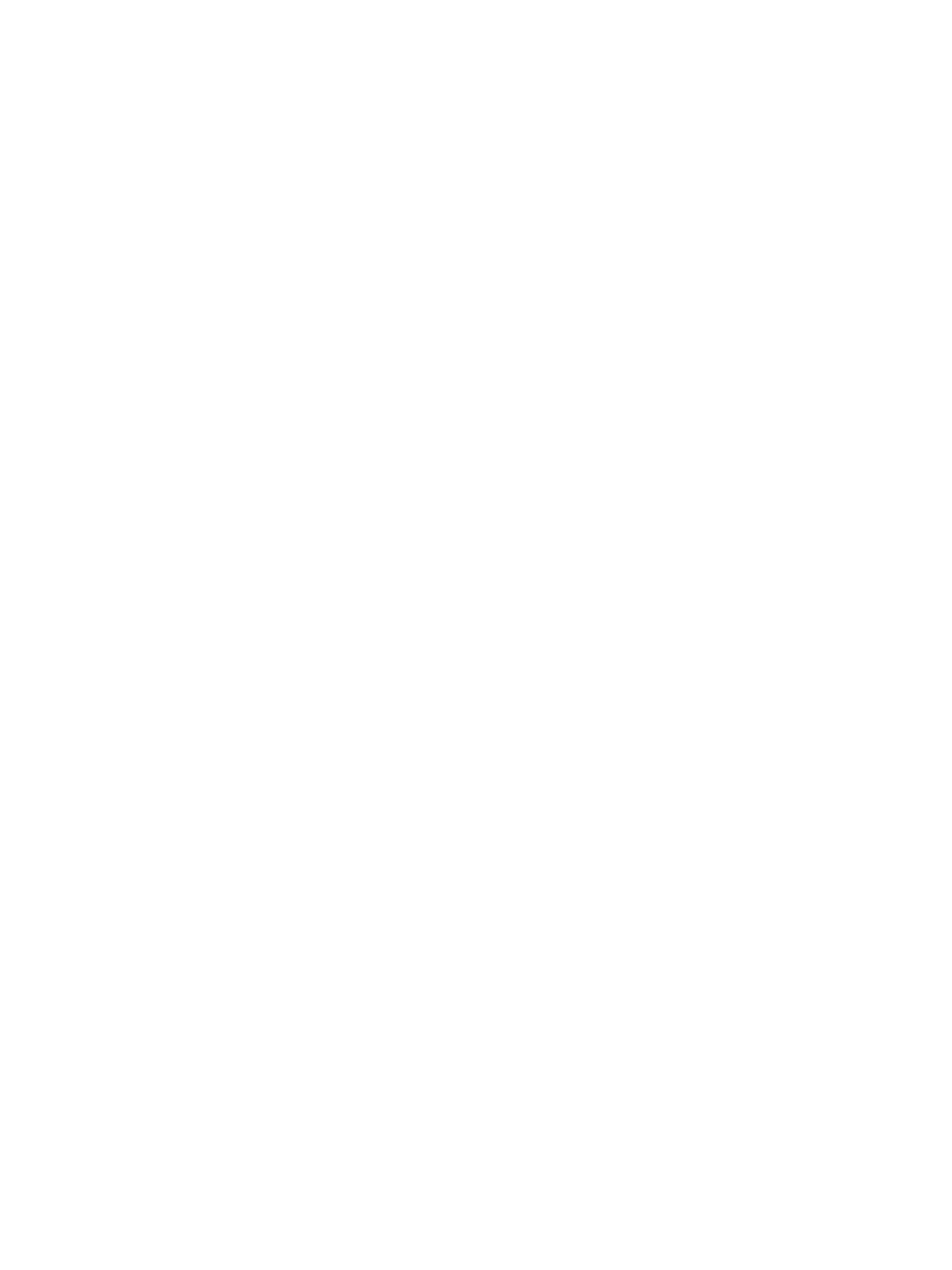
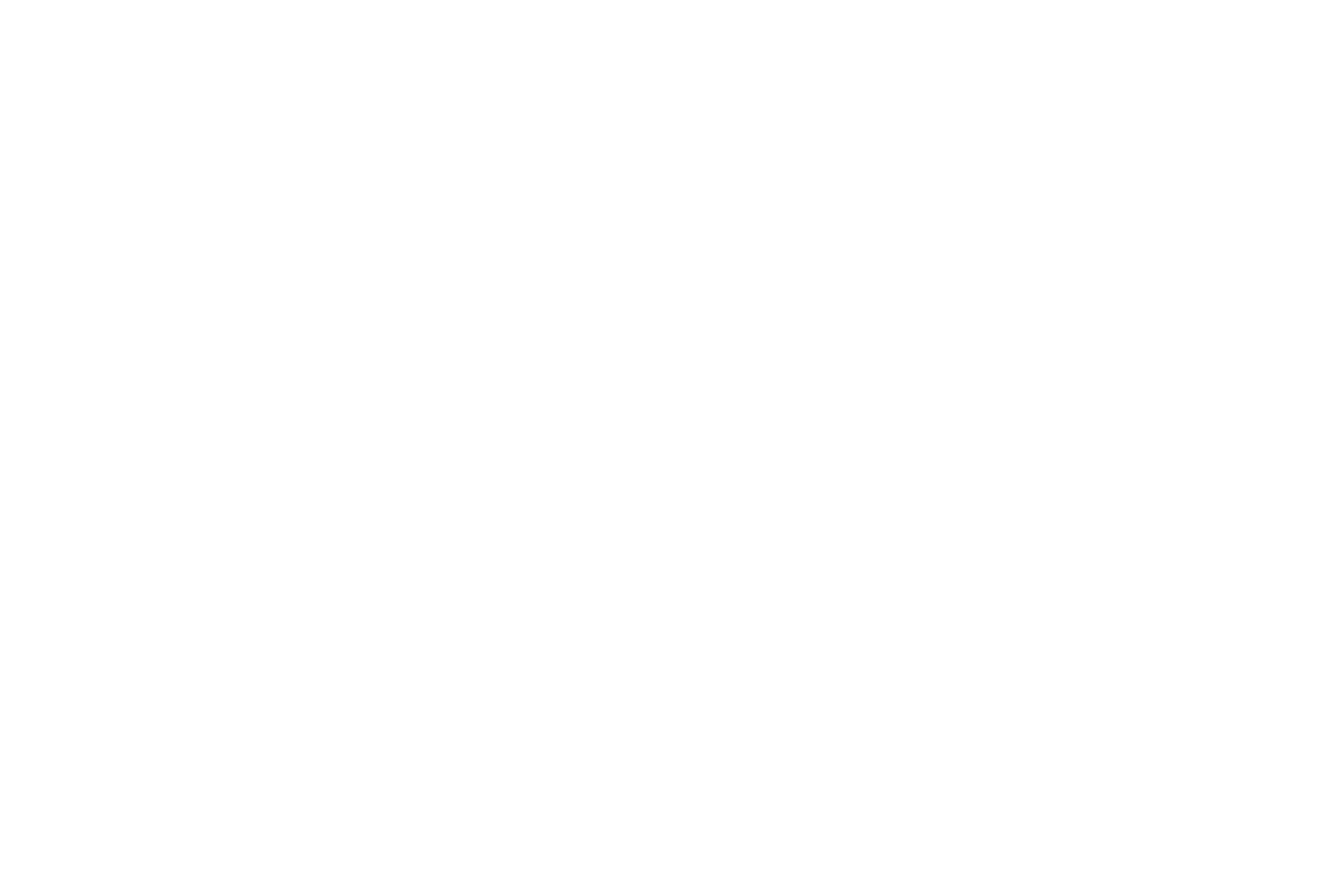
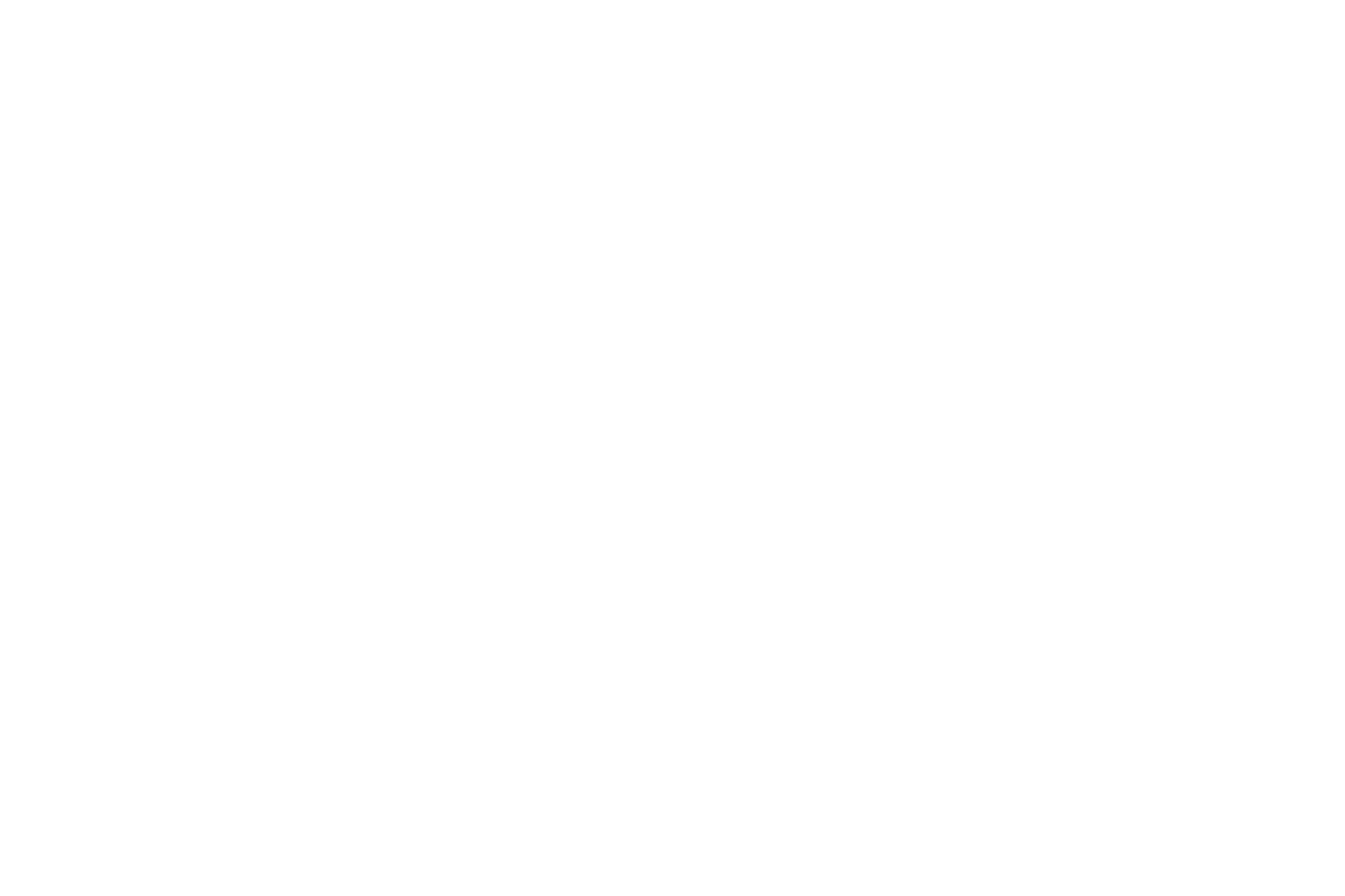
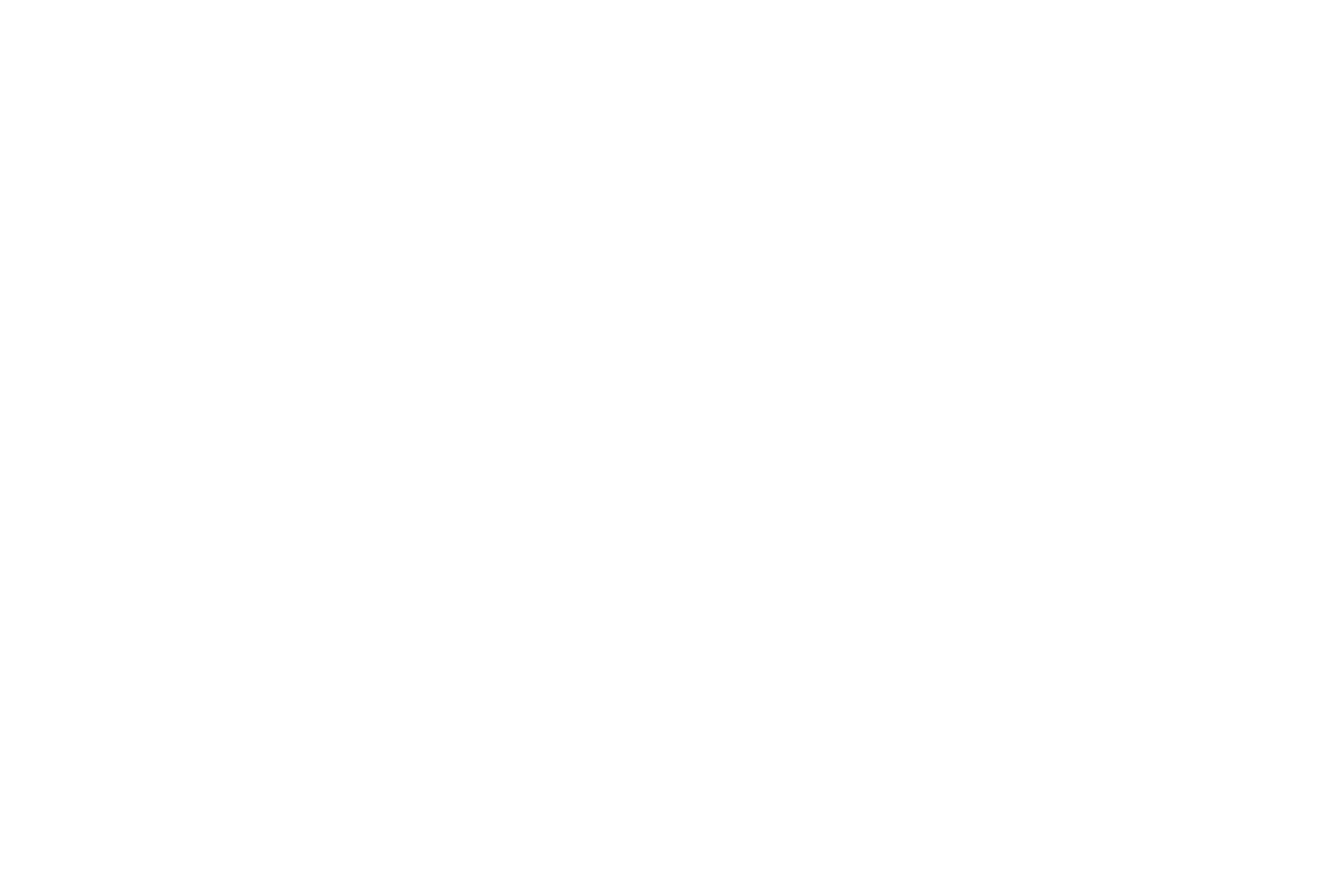
Италия. “Ни то ни другое: вызов Лабиринту”.
Итальянцы в очередной раз выступили блестяще, впрочем кому, как не им отвечать за “высокое” искусство. Проект “Ни то ни другое: вызов Лабиринту” – это еще один поворот темы Биеннале. Куратор Милован Фарронато создал павильон-лабиринт: у выставки нет ни начала, ни конца, нет путей правильных или неправильных, есть просто разные. Какая-либо повествовательность отсутствует, «ни то ни другое» – каждый зритель сам выбирает себе маршрут, сам ищет близкие ему ассоциации и трактовки.
Тон задают скульптуры Энрико Давида. Полные внутренней динамики и предельного статического напряжения, его работы представляют собой оригинальный синтез европейской скульптурной традиции. Они выполнены в классических материалах: мрамор, бронза, металл, – и напоминают одновременно средневековый бестиарий, эксперименты модернистов, но в то же время абсолютно современны и аутентичны. Размещенные в сюрреалистической архитектуре павильона, они создают между собой очевидные силовые линии.
Помимо скульптуры здесь и инсталляция, и живопись, и графика, и пространственные объекты, и обманки – выставка выстроена так хитроумно, что все произведения находятся в бесконечном диалоге, отсылают друг к другу, заставляя зрителя накручивать круги по павильону. Отсутствие заданных траекторий и объективных критериев точно характеризует положение внутри нашего “интересного времени”.
Тон задают скульптуры Энрико Давида. Полные внутренней динамики и предельного статического напряжения, его работы представляют собой оригинальный синтез европейской скульптурной традиции. Они выполнены в классических материалах: мрамор, бронза, металл, – и напоминают одновременно средневековый бестиарий, эксперименты модернистов, но в то же время абсолютно современны и аутентичны. Размещенные в сюрреалистической архитектуре павильона, они создают между собой очевидные силовые линии.
Помимо скульптуры здесь и инсталляция, и живопись, и графика, и пространственные объекты, и обманки – выставка выстроена так хитроумно, что все произведения находятся в бесконечном диалоге, отсылают друг к другу, заставляя зрителя накручивать круги по павильону. Отсутствие заданных траекторий и объективных критериев точно характеризует положение внутри нашего “интересного времени”.
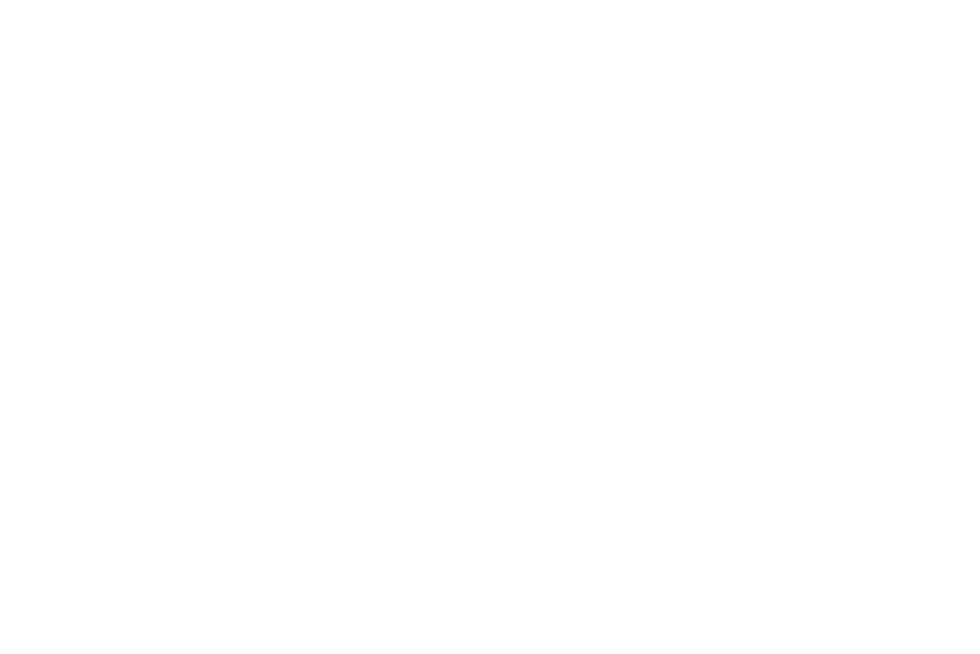
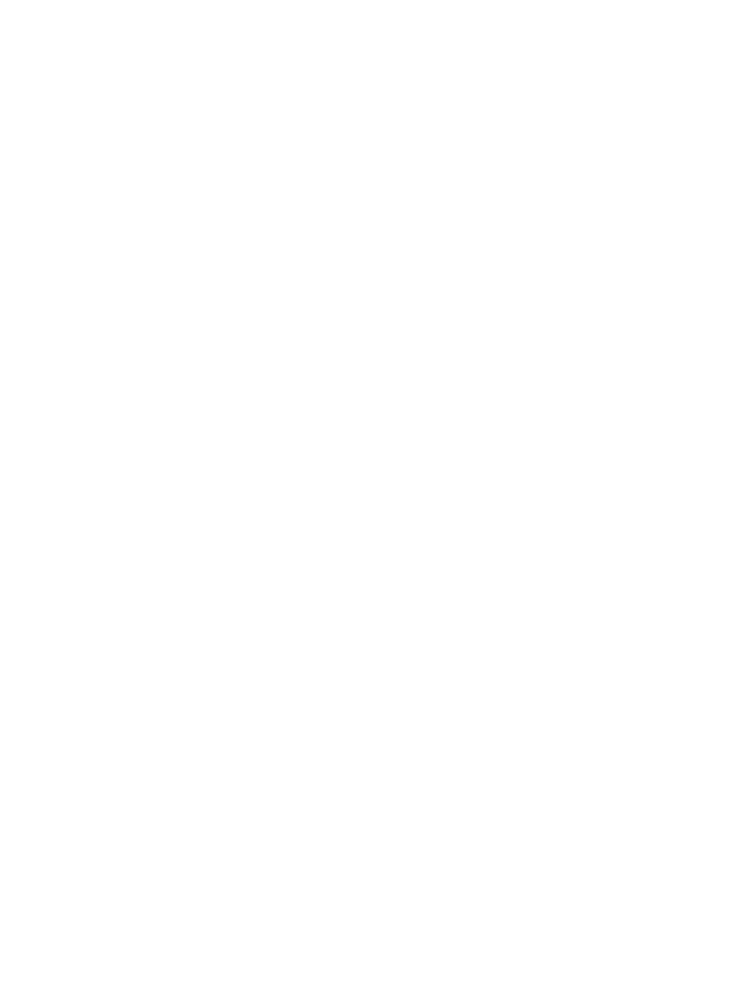
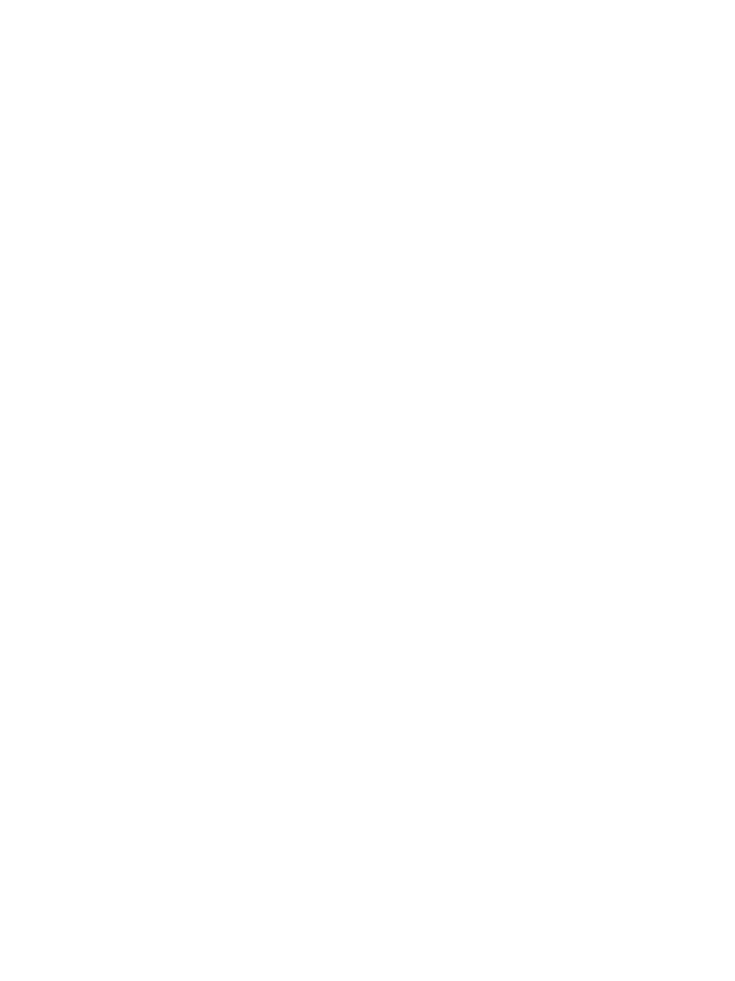
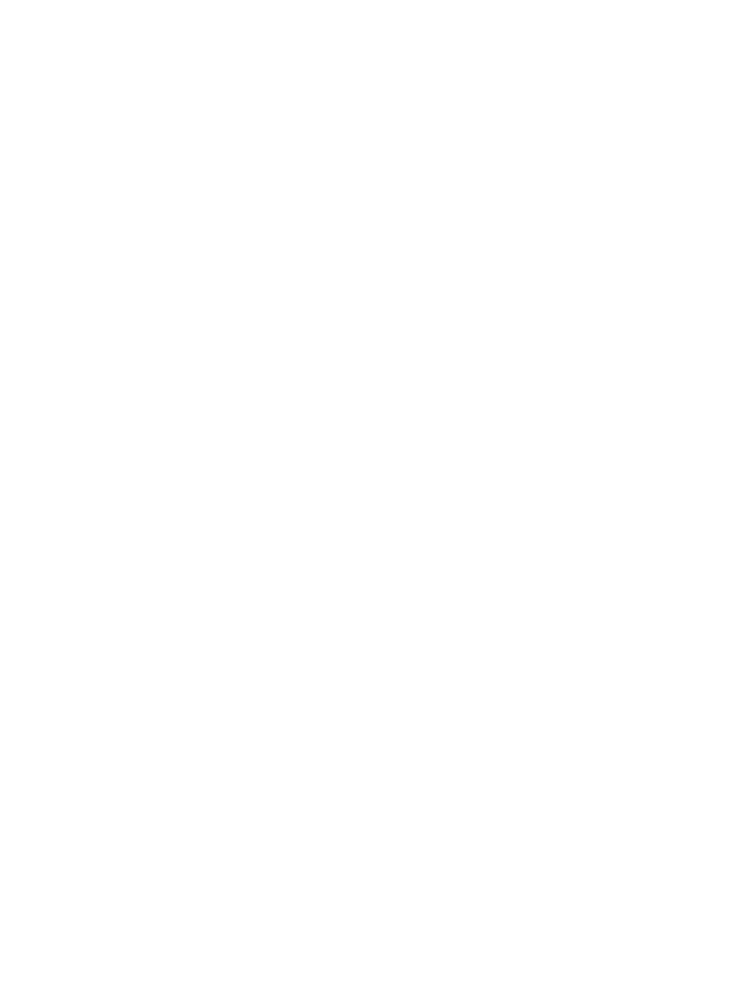
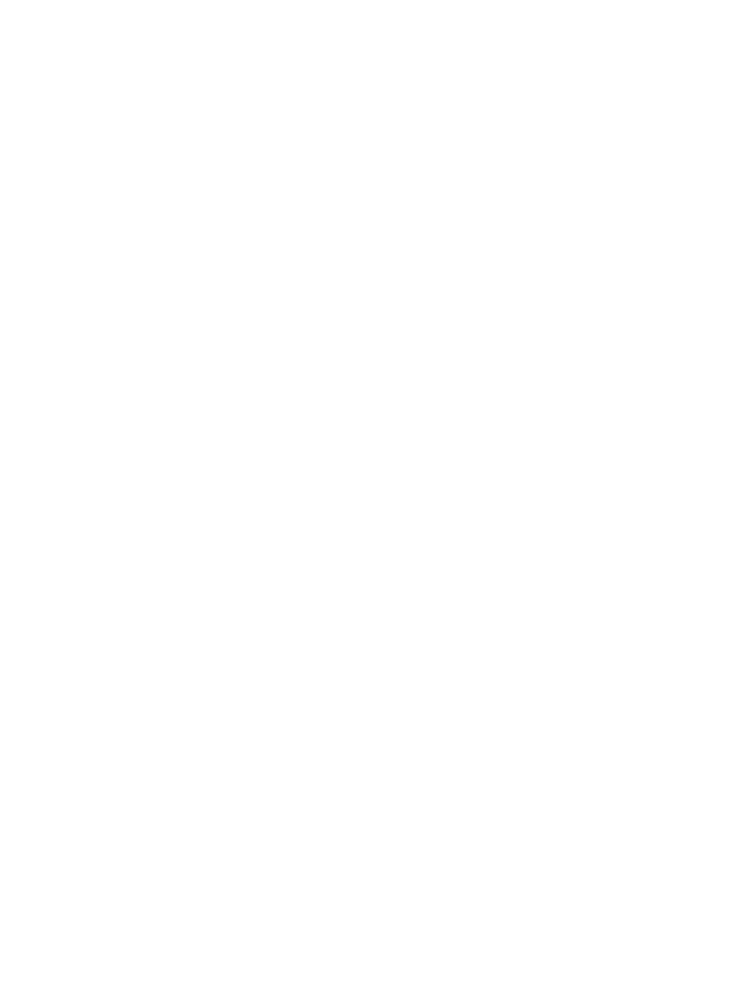
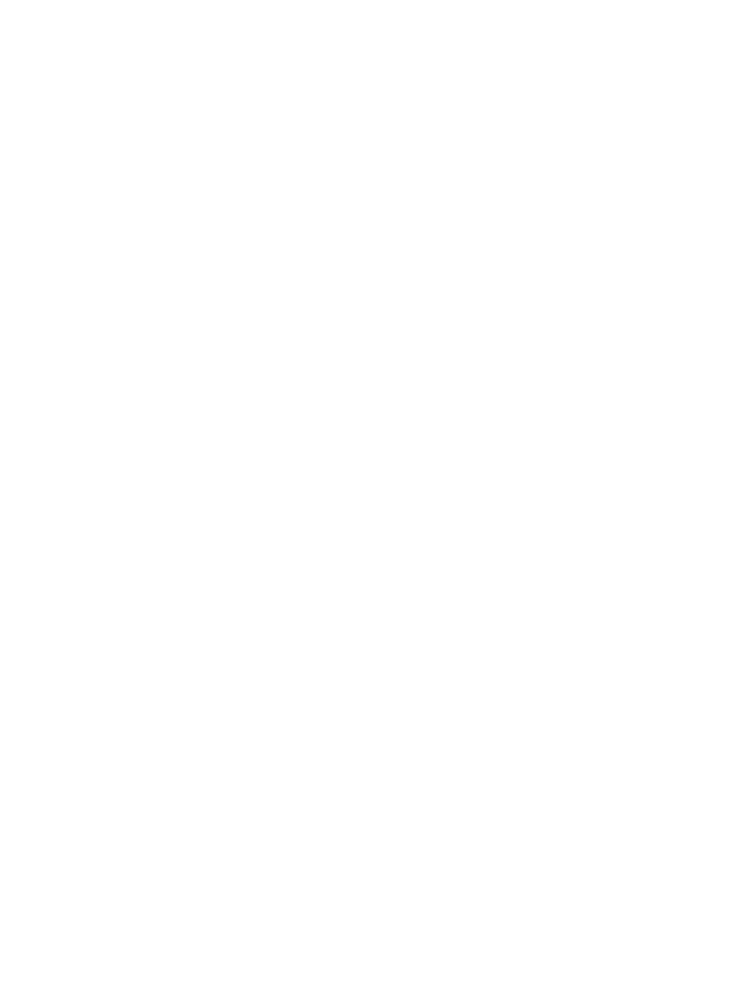
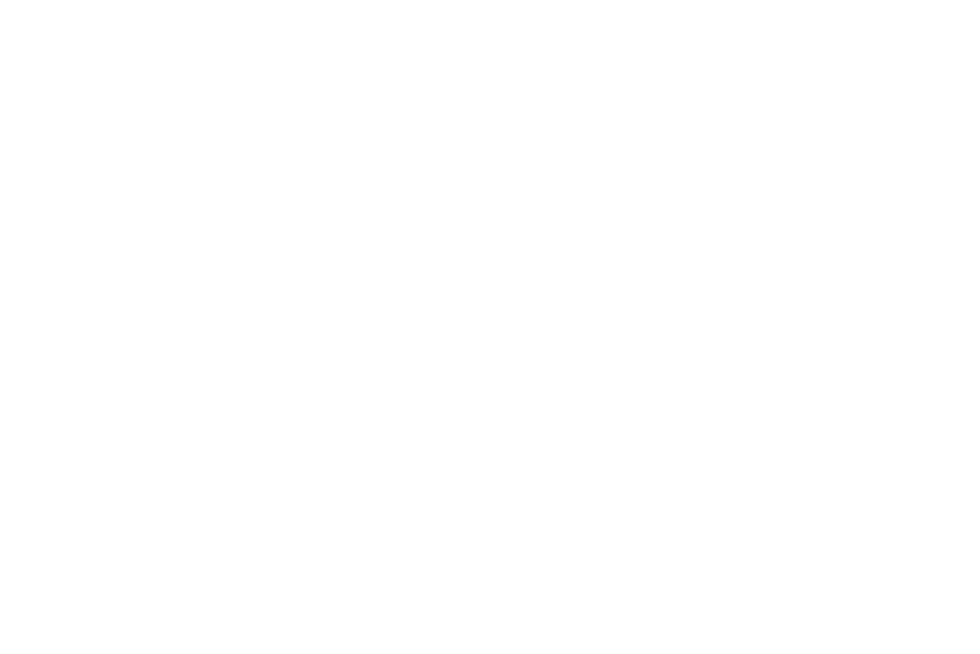
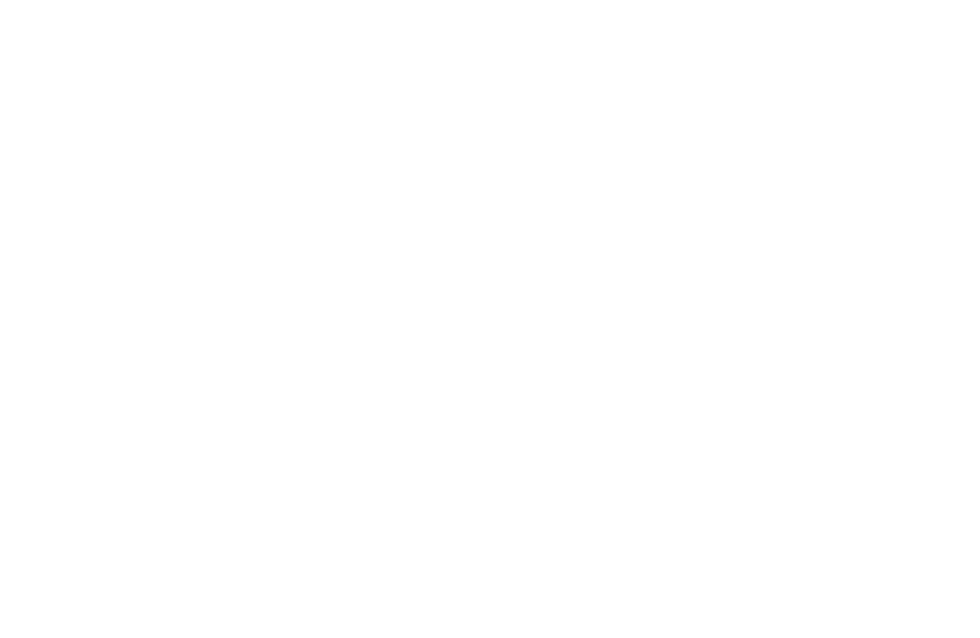
Вот, собственно, некоторые из национальных павильонов, больше всего прозвучавших в прессе. Я выбрала те шесть, которые мне захотелось отметить – мой “the best” лист.
Что же касается нашей “официальной” выставки – проекта Эрмитажа в русском павильоне в Джардини, то о ней написано столько, что я лишь подведу итог. Все наши критики, (за исключением близких к Эрмитажу) плакали в голос: «Современный отечественный опыт работы с национальным павильоном — это современная бездарность, — рассказал Леонид Бажанов, комиссар павильона России в 2001 году. — В проекте этого года участвуют замечательные художники, замечательный куратор. Все в художественном сообществе это понимают. Сокуров — гений, замечательный человек, личность. Пиотровский — замечательный директор, искусствовед, человек, личность. Но они влипли в ужасно непрофессиональную историю. И это очень огорчительно. Государство диктует в культуре так же, как в космосе, но для этого нужна компетентность. Нужно полагаться на мнение профессионалов, тех, кто профессионально занимается современным искусством. Иначе мы получаем плачевный результат».
Западные критики также довольно часто упоминали русский павильон, отмечая, что наше выступление честно рассказывает о том, что на самом деле происходит в России, какие силы действуют сегодня на культурном поле и как сложно в существующей ситуации оставаться понастоящему современным.
Прочесть о русском павильоне подробно можно здесь: Милена Орлова http:// www.theartnewspaper.ru/posts/6924/
Что же касается нашей “официальной” выставки – проекта Эрмитажа в русском павильоне в Джардини, то о ней написано столько, что я лишь подведу итог. Все наши критики, (за исключением близких к Эрмитажу) плакали в голос: «Современный отечественный опыт работы с национальным павильоном — это современная бездарность, — рассказал Леонид Бажанов, комиссар павильона России в 2001 году. — В проекте этого года участвуют замечательные художники, замечательный куратор. Все в художественном сообществе это понимают. Сокуров — гений, замечательный человек, личность. Пиотровский — замечательный директор, искусствовед, человек, личность. Но они влипли в ужасно непрофессиональную историю. И это очень огорчительно. Государство диктует в культуре так же, как в космосе, но для этого нужна компетентность. Нужно полагаться на мнение профессионалов, тех, кто профессионально занимается современным искусством. Иначе мы получаем плачевный результат».
Западные критики также довольно часто упоминали русский павильон, отмечая, что наше выступление честно рассказывает о том, что на самом деле происходит в России, какие силы действуют сегодня на культурном поле и как сложно в существующей ситуации оставаться понастоящему современным.
Прочесть о русском павильоне подробно можно здесь: Милена Орлова http:// www.theartnewspaper.ru/posts/6924/
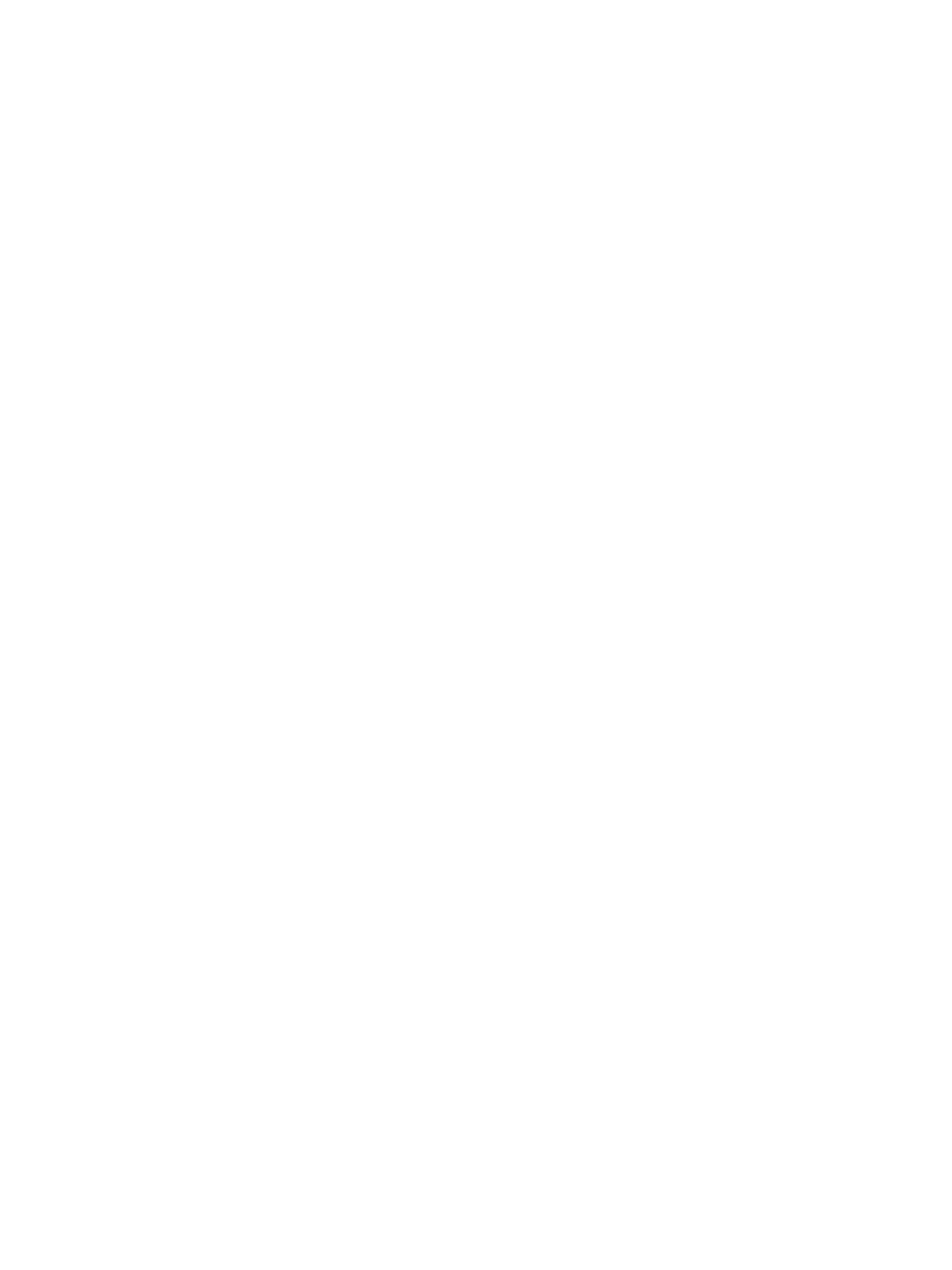
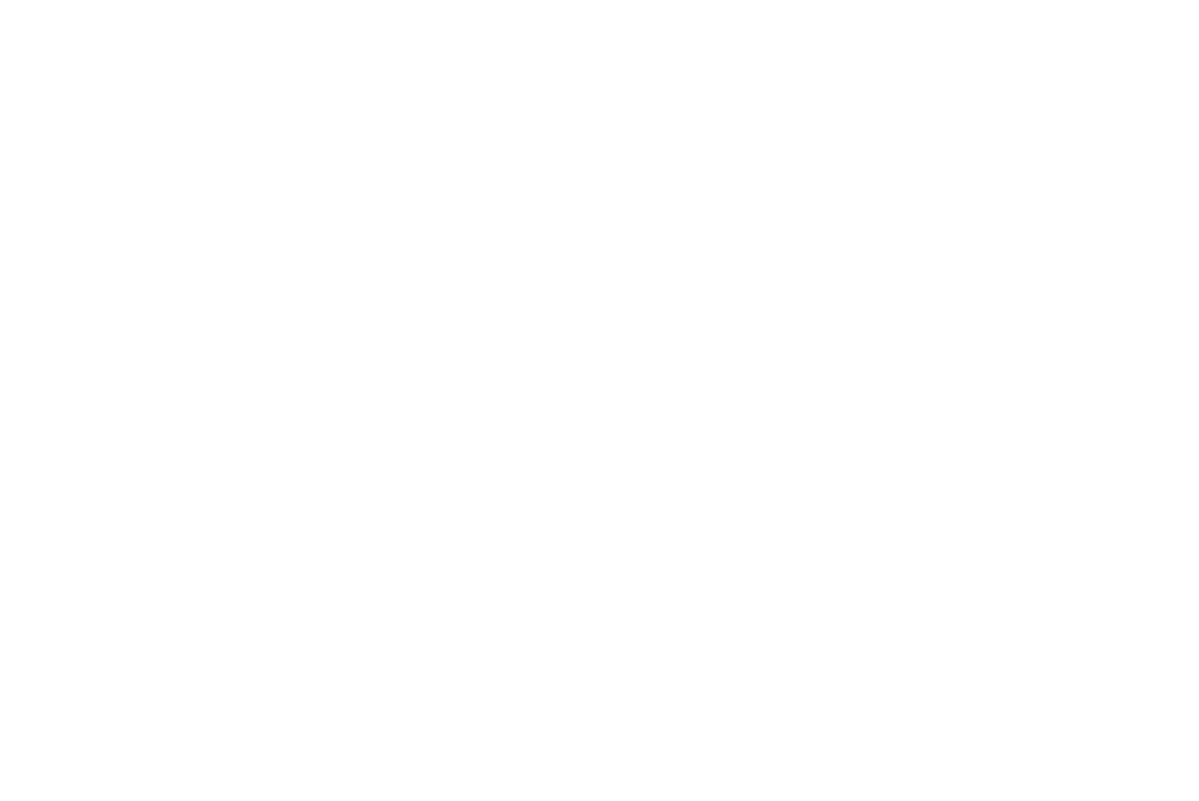
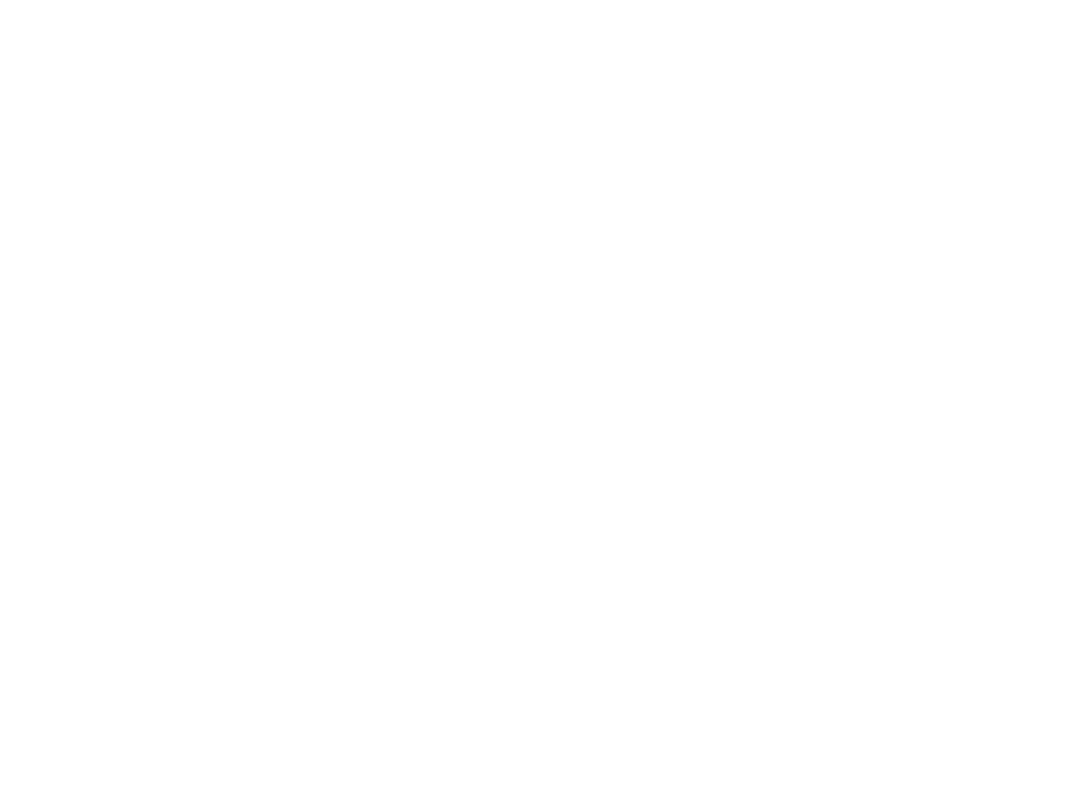
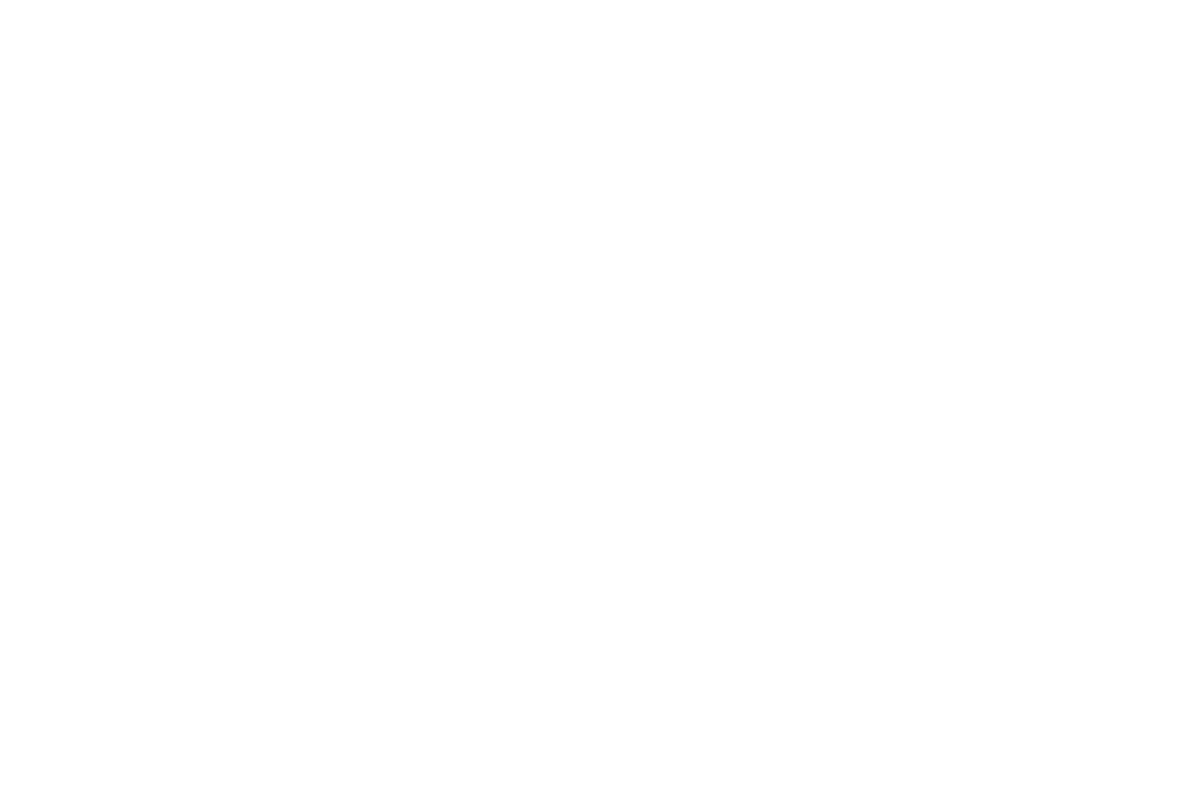
3. ГМИИ им. А. С. Пушкина. “В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто”.
Проект ГМИИ им. А. С. Пушкина «В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто» в церкви Сан-Фантин, осуществленный при поддержке Stella Art Foundation – участник параллельной программы 58 Венецианского Биеннале.
“Пушкинский… по сути произвёл альтернативный павильон. И тем самым – если оценивать в терминах соревнования институций – положил Эрмитаж на обе лопатки”, – Сергей Попов.
Церковь Сан-Фантин десять лет находилась на реставрации и в этом году впервые открыла свои двери в качестве музейной площадки. Ее барочный интерьер стал прекрасной декорацией к проекту ГМИИ. Пушкинский собрал оммаж творчеству Тинторетто, чье 500-летие празднует в этом году Италия. Художники проекта: собственно Тинторетто, театральный режиссер Дмитрий Крымов, Ирина Нахова, американец Гари Хилл, итальянец Эмилио Ведова и швейцарская медиагруппа Bitnik – неожиданная, но воистину звездная компания. Идея выстроить выступление вокруг холста Тинторетто в тот момент, когда все его станковые работы художника в связи с торжественной датой находятся на гастролях – уже беспроигрышный ход, заявка на блокбастер.
С другой стороны, в привязке Тинторетто к теме биеннале тоже нет никакой натяжки: великий венецианец был новатором и одним из первых начал смелые эксперименты с пространством и светом, фактически добиваясь иммерсивности.
Мультимедийное представление длится около часа и открывается работой Дмитрия Крымова. Видеоспектакль (можно сказать, видеоарт) Крымова разворачивается на большом экране в алтарной части церкви. Сюжет и декорация – прославленная работа Тинторетто “Тайная вечеря” из церкви Сан-Тровазо.
Умное, трогательное и глубокое, очень “русское” по своему характеру видео Крымова – великолепный пример того, как в наше время можно работать с религиозными темами, не скатываясь в пафос фальш.
«Я провожу много времени в театре и знаю, что такое разборка декораций после спектакля, — это очень грустное зрелище, и я даже стараюсь на это не смотреть. Это очень делово, ясно, быстро. Кончается магия, и начинается проза. Я хотел магию этой картины (“Тайной вечери” Тинторетто ) увести в прозу, а потом опять ее вынуть, создать такие волны», — рассказал о своем замысле режиссер Дмитрий Крымов.
На пике волны, созданной последними минутами Крымовского спектакля – когда весь мир растворяется в зрачке живого Христа – в куполе и на стене боковой капеллы загорается видеомистерия Ирины Наховой. В отличие от предыдущей работы, видео Наховой не является повествованием, но зато очень удачно переводит художественные открытия и приемы новатора Тинторетто на язык современности, соединяя видеопроекцию о нашем типическом “сегодня” с искусными барочными росписями.
Классик американского видеоарта Гари Хилл, еще один участник «Тайного братства Тинторетто», завершает эту “современную мессу”(Стелла Кесаева), растворяя в синем беспредметном жужжании всю конкретику предыдущих рассказов. Остается лишь волшебное послевкусие...
“Пушкинский… по сути произвёл альтернативный павильон. И тем самым – если оценивать в терминах соревнования институций – положил Эрмитаж на обе лопатки”, – Сергей Попов.
Церковь Сан-Фантин десять лет находилась на реставрации и в этом году впервые открыла свои двери в качестве музейной площадки. Ее барочный интерьер стал прекрасной декорацией к проекту ГМИИ. Пушкинский собрал оммаж творчеству Тинторетто, чье 500-летие празднует в этом году Италия. Художники проекта: собственно Тинторетто, театральный режиссер Дмитрий Крымов, Ирина Нахова, американец Гари Хилл, итальянец Эмилио Ведова и швейцарская медиагруппа Bitnik – неожиданная, но воистину звездная компания. Идея выстроить выступление вокруг холста Тинторетто в тот момент, когда все его станковые работы художника в связи с торжественной датой находятся на гастролях – уже беспроигрышный ход, заявка на блокбастер.
С другой стороны, в привязке Тинторетто к теме биеннале тоже нет никакой натяжки: великий венецианец был новатором и одним из первых начал смелые эксперименты с пространством и светом, фактически добиваясь иммерсивности.
Мультимедийное представление длится около часа и открывается работой Дмитрия Крымова. Видеоспектакль (можно сказать, видеоарт) Крымова разворачивается на большом экране в алтарной части церкви. Сюжет и декорация – прославленная работа Тинторетто “Тайная вечеря” из церкви Сан-Тровазо.
Умное, трогательное и глубокое, очень “русское” по своему характеру видео Крымова – великолепный пример того, как в наше время можно работать с религиозными темами, не скатываясь в пафос фальш.
«Я провожу много времени в театре и знаю, что такое разборка декораций после спектакля, — это очень грустное зрелище, и я даже стараюсь на это не смотреть. Это очень делово, ясно, быстро. Кончается магия, и начинается проза. Я хотел магию этой картины (“Тайной вечери” Тинторетто ) увести в прозу, а потом опять ее вынуть, создать такие волны», — рассказал о своем замысле режиссер Дмитрий Крымов.
На пике волны, созданной последними минутами Крымовского спектакля – когда весь мир растворяется в зрачке живого Христа – в куполе и на стене боковой капеллы загорается видеомистерия Ирины Наховой. В отличие от предыдущей работы, видео Наховой не является повествованием, но зато очень удачно переводит художественные открытия и приемы новатора Тинторетто на язык современности, соединяя видеопроекцию о нашем типическом “сегодня” с искусными барочными росписями.
Классик американского видеоарта Гари Хилл, еще один участник «Тайного братства Тинторетто», завершает эту “современную мессу”(Стелла Кесаева), растворяя в синем беспредметном жужжании всю конкретику предыдущих рассказов. Остается лишь волшебное послевкусие...
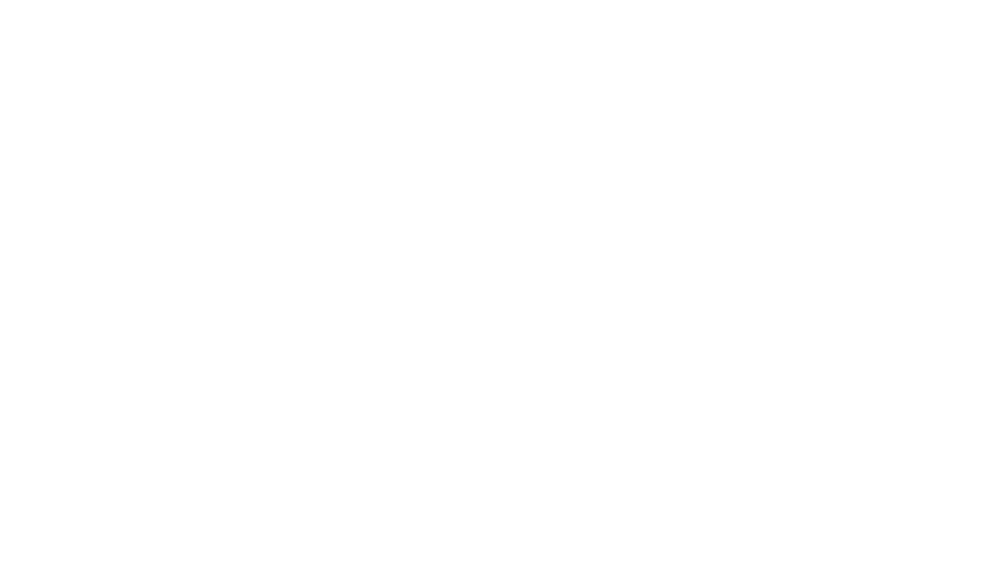
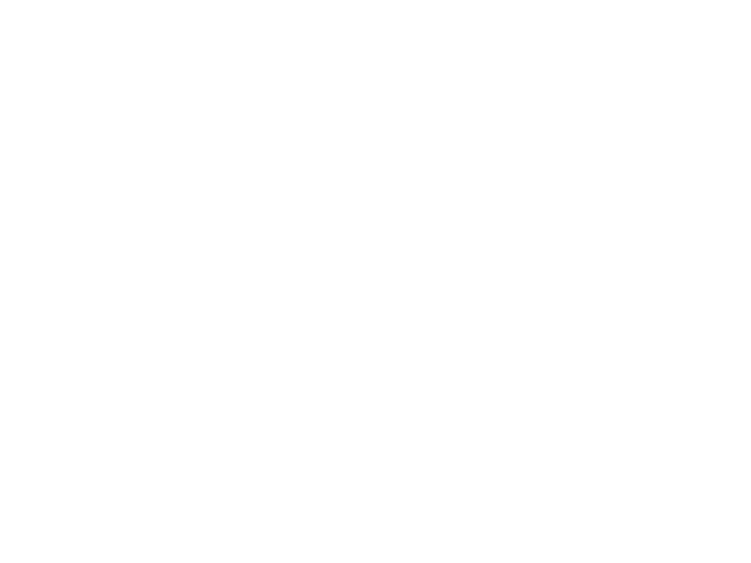
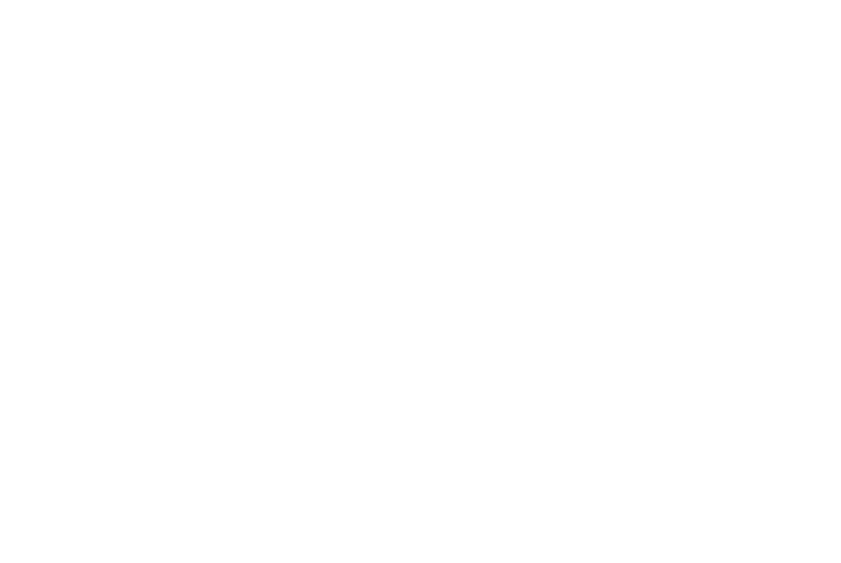
4. Выставки в городе.
Из года в год, кроме основной и параллельной программы Биеннале, венецианские институции готовят интереснейшие выставки. Заданная планка столь высока, а конкурентов так много, что для того, чтобы привлечь зрителя, каждый раз нужно придумывать нечто из ряда вон…
По крайней мере две выставки, дополняющие программу Биеннале, заслуживают отдельного упоминания. Это ретроспектива немца Георга Базелица в Академии – самого продаваемого среди современных европейских художников, и большая выставка идеолога движения новое-бедное Яниса Кунеллиса в барочном палаццо фонда Prada.
Георг Базелиц – представитель немецкого неоэкспрессионизма, возродивший фигуративную живопись в послевоенные годы в Германии, когда абстракция захватила ведущие позиции и казалось, что жанр портрета безнадежно устарел и уже не вернется в поле современного искусства. «Я знал, что мы проиграли войну, и что все вокруг были потеряны. И сейчас я понимаю, что не приветствовал новую культуру, т.к. не был современным человеком. То, что я хотел сделать, полностью противоречило интернационализму: я хотел найти ответ на вопрос, что в наши дни является подлинно немецким? Мои учителя… говорили, что это просто анахронизм. Но я был не согласен. У меня было другое мнение», – Георг Базелиц в интервью для The Guardian от 14 февраля 2014.
На выставке в Академии была представлена большая серия портретов: живопись, графика, несколько деревянных скульптур, созданные Базелицом в 1960-2000-х. Портретная галерея эпохи – выставка Базелица логически продолжает начатый Биеннале разговор о поиске национальной идентичности и о формировании образа «нового» человека, его ценностей и амбиций. Любопытно и то, что проходит она в Академии параллельно с выставкой рисунков Леонардо да Винчи, только этажом ниже. И Леонардо, и Базелиц говорят об одном: когда происходит смена эпохи, меняется и оптика. И человек вновь оказывается в центре внимания.
По крайней мере две выставки, дополняющие программу Биеннале, заслуживают отдельного упоминания. Это ретроспектива немца Георга Базелица в Академии – самого продаваемого среди современных европейских художников, и большая выставка идеолога движения новое-бедное Яниса Кунеллиса в барочном палаццо фонда Prada.
Георг Базелиц – представитель немецкого неоэкспрессионизма, возродивший фигуративную живопись в послевоенные годы в Германии, когда абстракция захватила ведущие позиции и казалось, что жанр портрета безнадежно устарел и уже не вернется в поле современного искусства. «Я знал, что мы проиграли войну, и что все вокруг были потеряны. И сейчас я понимаю, что не приветствовал новую культуру, т.к. не был современным человеком. То, что я хотел сделать, полностью противоречило интернационализму: я хотел найти ответ на вопрос, что в наши дни является подлинно немецким? Мои учителя… говорили, что это просто анахронизм. Но я был не согласен. У меня было другое мнение», – Георг Базелиц в интервью для The Guardian от 14 февраля 2014.
На выставке в Академии была представлена большая серия портретов: живопись, графика, несколько деревянных скульптур, созданные Базелицом в 1960-2000-х. Портретная галерея эпохи – выставка Базелица логически продолжает начатый Биеннале разговор о поиске национальной идентичности и о формировании образа «нового» человека, его ценностей и амбиций. Любопытно и то, что проходит она в Академии параллельно с выставкой рисунков Леонардо да Винчи, только этажом ниже. И Леонардо, и Базелиц говорят об одном: когда происходит смена эпохи, меняется и оптика. И человек вновь оказывается в центре внимания.





Яннис Кунеллис стоял у истоков радикального итальянского течения «Арте повере», возникшего в конце 1960-х как реакция на политический и социальный кризис в стране и призывающего вывести искусство из сферы влияния властных структур, индустрии галерей и законов рынка. Кунеллис работал с «мусорными» материалами, создавая инсталляции из дерева, грубой шерсти, веревок, тряпок, мяса, угля, жести и огня, а порой даже из живых зверей и птиц. Его инсталляции, представленные в фонде Прада на трех этажах роскошного палаццо Ca’ Corner della Regina с видом на Гранд канал, по контрасту с окружающей красотой выглядят неожиданно очень серьезным, «музейным» искусством.
Центральную анфиладу на третьем этаже занимает одна из хрестоматийных работ художника – сложенные аккуратными рядами на полу ношеные комплекты одежды: черные пальто, брюки, шляпы и ботинки. Если зрителю прошлого века эта инсталляция говорила бы, наверное, об ужасах нацизма и холокосте, то современный зритель задумается скорее об офисном планктоне, о потере индивидуальности и той самой пресловутой идентификации в контексте глобализации и стремительно меняющегося мира.
«Я исследую прошлое не ради археологического удовольствия, как могло бы показаться, а потому что прошлое – это реальность, которая обуславливает нашу сегодняшнюю глубину. И если извлечь ее на поверхность медленно и бережно, то оказывается, что эта реальность также полна различных возможностей», – Янис Кунеллис.
Центральную анфиладу на третьем этаже занимает одна из хрестоматийных работ художника – сложенные аккуратными рядами на полу ношеные комплекты одежды: черные пальто, брюки, шляпы и ботинки. Если зрителю прошлого века эта инсталляция говорила бы, наверное, об ужасах нацизма и холокосте, то современный зритель задумается скорее об офисном планктоне, о потере индивидуальности и той самой пресловутой идентификации в контексте глобализации и стремительно меняющегося мира.
«Я исследую прошлое не ради археологического удовольствия, как могло бы показаться, а потому что прошлое – это реальность, которая обуславливает нашу сегодняшнюю глубину. И если извлечь ее на поверхность медленно и бережно, то оказывается, что эта реальность также полна различных возможностей», – Янис Кунеллис.
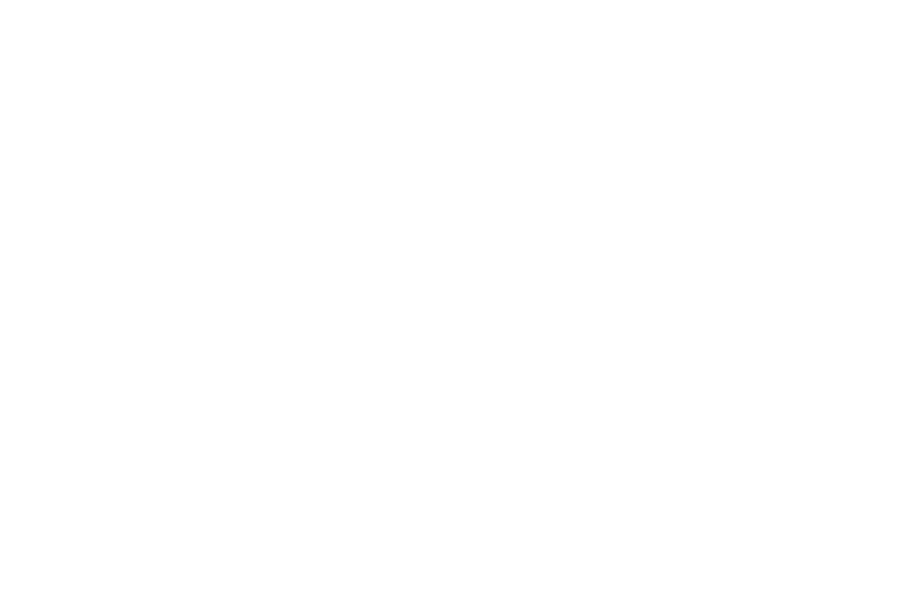
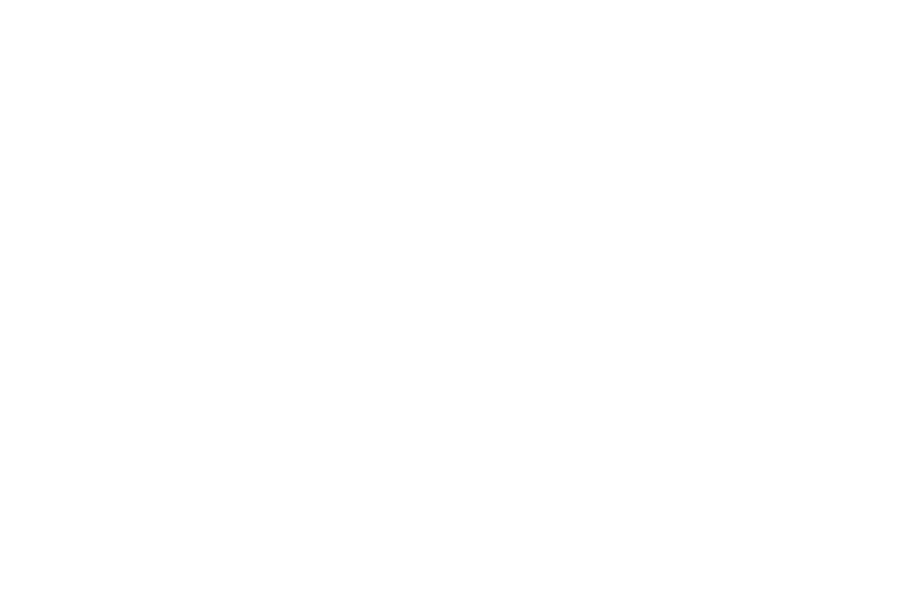



5. Эпилог
Конечно же, Биеннале сохраняет свой статус одной из главных площадок арт-мира еще и потому, что происходит этот регулярный парад современного искусства в декорациях Венеции – волшебного города, чьи каменные кружева и путаные улочки сами по себе давно уже стали неотъемлемой частью мирового искусства.
Получается такая вот культурная «матрешка», одно в другом и все вместе, все возможные эстетические и интеллектуальные удовольствия в одной точке пространства в определенное время. А ведь именно это ценится больше всего в наш быстрый век…
Мы действительно живем в очень интересное время: фактически, на пороге новой эры. Мир меняется на глазах и то искусство, которое мы имеем сегодня – глупое оно или умное, нравится оно нам или нет – это по сути зеркало нашего времени с его рефлексией и ожиданиями, с его страхами и страстями. И посмотреть в это зеркало нам, живущим сегодня и строящим наше завтра, очень и очень полезно
Получается такая вот культурная «матрешка», одно в другом и все вместе, все возможные эстетические и интеллектуальные удовольствия в одной точке пространства в определенное время. А ведь именно это ценится больше всего в наш быстрый век…
Мы действительно живем в очень интересное время: фактически, на пороге новой эры. Мир меняется на глазах и то искусство, которое мы имеем сегодня – глупое оно или умное, нравится оно нам или нет – это по сути зеркало нашего времени с его рефлексией и ожиданиями, с его страхами и страстями. И посмотреть в это зеркало нам, живущим сегодня и строящим наше завтра, очень и очень полезно